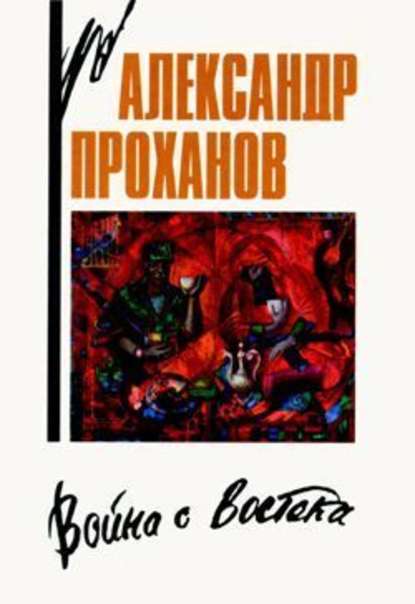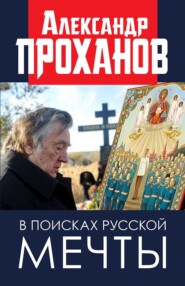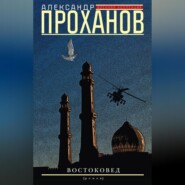По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Война с Востока. Книга об афганском походе
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С Джандатом, начальником гвардии, сошлись? Очень умный, осторожный и хитрый. Предан Амину до последнего вздоха, своего и чужого. Это он задушил Тараки. Пришел к нему в комнату, принял от него часы на память, снял с него галстук, положил на лицо подушку и задушил.
Калмыков вспомнил огромные членистые пальцы Джандата, похожие на железное гидравлическое устройство. Представил: комнатка арестованного Тараки, табакерки, узорные пепельницы, недопитая пиалка чая. Входит Джандат, веселый, резкий. Беспомощный слезный взгляд старика, часы на худом запястье, стариковские руки послушно стягивают с шеи галстук, расстегивают рубаху на шее, и красные, с белыми костяшками пятерни Джандата поудобнее обхватывают начинающее клокотать и пульсировать горло.
– Техника на ходу? Горючее? Боекомплект? С министром говорили о батальоне. Все необходимое по вашему докладу будет обеспечено. – Генерал поднялся, дружелюбно и властно глядел на Калмыкова. – Через несколько дней к вам приеду!
– Товарищ генерал, останьтесь пообедать! – подошел к ним Татьянушкин. – Все готово, товарищ генерал!
– Спасибо. Обедаю дома. Жене обещал. – Легкой моложавой походкой последовал к выходу. Охранник, прихватив автомат, гибко выскользнул вслед.
Азиз и Квасов тихо переговаривались у окна, за которым в бледном холодном солнце желтел и розовел сад, сквозили ржавые кусты роз, ходил садовник и мелко, серебристо струилась вода из фонтана. Калмыков сидел на резной табуретке и обдумывал слова генерала, простые и почти пустые, в которых, однако, мерещился тайный смысл.
На юге, в Джелалабаде, вечнозеленом и влажном, где в туманном дожде лоснятся глянцевитые цитрусы, оранжевые плоды, как маленькие развешанные на деревьях светила, – там идут бои, горят кишлаки, танки скребут гранит, легконогие повстанцы целят из английских винтовок в бегущую цепь «коммандос».
В Герате, у иранской границы, восставший полк казнит офицеров, вяжет советников, сжигает казармы и технику. В горчичном воздухе кривятся минареты мечетей, голубеют изразцы на мазарах.
В предместьях Кабула, в тюрьме, похожей на каменное черное солнце, идут день и ночь допросы. В застенках липко от крови, вопли в глухих казематах. Под утро на бледной заре выводят во двор заключенных, и пули, пробив тела, цокают о камень стены.
На севере, в стране хазарейцев, идут облавы. Женщин, детей, стариков везут к мутно-желтой реке, стреляют, кидают в воду. И потом на глинистый берег выносит распухшие трупы. В жирной шоколадной воде колышется, всплывает и тонет мертвое лицо старика.
Калмыков чувствовал себя в центре беды и опасности, видел себя помещенным в неведомый чертеж.
Снаружи послышался шум машины, приглушенный говор. В дверях появился сутулый, долгоносый человек с маленьким стиснутым ртом, и Калмыков в нем мгновенно узнал личного врача Амина, Николая Николаевича, с кем познакомился день назад в кабульском госпитале.
– Машина пускай уходит! Меня подбросят товарищи! – сказал кому-то невидимому вошедший, шагнул в пространство гостиной под высокий потолок, где на черной балке висела хрустальная люстра.
Татьянушкин, увидев гостя, заторопился навстречу с особой деликатностью и любезностью.
– Николай Николаевич, пожалуйста, проходите!.. Присаживайтесь, Николай Николаевич! – подводил он его к кожаному дивану, на котором сидел Калмыков. – Вы ведь знакомы с подполковником?
Калмыков и доктор пожали друг другу руки. Ладонь доктора была холодной и вялой, не ответила на пожатие Калмыкова.
– Я сейчас принесу, Николай Николаевич, то, что вам прислали, – Татьянушкин ушел вверх по лестнице, скрылся в дверях на втором этаже, Калмыков и доктор остались сидеть. Рука Калмыкова хранила нерастаявший холод чужой ладони.
– Я помню, вы сказали, у вас умерла собака, – Калмыков произнес эту фразу неожиданно, испытывая к сидящему человеку мучительный интерес, природа которого была необъяснима. В сутулой худой фигуре, в длинном, словно выдолбленном из дерева носе, в маленьких сжатых губах было страдание, вызванное, как показалось в первый раз Калмыкову, смертью любимой собаки.
– Спаниель Фриц, шестнадцать лет, – ответил доктор, удивленно взглянув на Калмыкова, знающего о его несчастье. – Жена написала. У нас нет детей. Собака была членом семьи. Когда-то раньше я с ней охотился.
– Сочувствую. Вижу, как вы переживаете!
– Мы уезжали на Украину, под Чернигов, в городок Седнев. Там замечательная пойма. Я стрелял уток на старицах, Фриц доставал птицу. Как сейчас помню: теплая вода, кувшинки, жена в розовом сарафане, Фриц кладет утку у ног жены.
– Есть воспоминания, от которых плакать хочется.
– И у вас такое бывает?
Доктор пристально посмотрел на Калмыкова, словно удивлялся тому, что был столь откровенен с неизвестным, в афганской форме военным. Старался понять, кто он. Калмыков испытывал к нему смешанное чувство симпатии, сострадания и вины. Здесь, на вилле в центре Кабула, сходились люди разных профессий, привычек и лет, скрепленные невидимой связью, вписанные каждый по-своему в неведомый план и чертеж.
– Удивительный феномен – память, – сказал доктор. – Человек рождается без памяти, подключенный через пуповину к материнской плоти. А потом через память он подключается ко всему мирозданию, к мировой памяти. Быть может, смысл человеческой жизни объясняется именно наличием памяти. Своей малой памятью человек питает необъятную мировую память. Когда Вселенная погибнет, останется Память. Потом в новом Большом Взрыве эта Память воплотится в материнскую жизнь Вселенной.
Он сказал это и умолк. Калмыков не удивился этой мысли, смотрел в сад, где в зимнем солнце чахли и умирали последние розы и садовник в чалме пригибал колючие ветки к земле. Он постарался все это запомнить, веря, что память о розах и бородатом садовнике унесется в бледно-синее небо, сохранится там навсегда, и когда-нибудь через миллиарды лет, после гибели и возрождения Вселенной, вновь будет этот сад, искрящаяся струйка воды, мягкий диван в гостиной, на котором будет сидеть длинноносый, похожий на грача человек.
– Послезавтра Амин переезжает во Дворец, – сказал врач. – Я тоже там поселюсь. Мы с вами будем соседи.
– Нам запрещено приближаться ко Дворцу, – сказал Калмыков. – Мы прикрываем Дворец на подступах, с востока.
– Неизвестно, откуда может прийти опасность, – сказал врач, морща и без того маленький рот, сжимая его в плотный бутон. – Есть опасность-невидимка.
– Что вы имеете в виду?
– Например, болезнь.
– Разве Амин болен?
– Слава Богу, здоров, – сказал врач и повел худыми плечами, словно ему стало холодно в свете зимнего солнца.
Калмыков вдруг подумал: если бы они ехали долго в одном купе или жили вместе в гостиничном номере, в каком-нибудь санатории или доме отдыха, они бы могли подружиться, могли бы сойтись, рассказать друг другу о своих жизнях, увлечениях, о невыразимых загадочных состояниях, о теории Памяти, как только что поведал доктор, или об ожидании чуда, как было когда-то в детстве, когда на опушке леса в весенней, набухшей соком осине было дивное синее небо, словно из вершины изливались могучие живые силы, наполняли его могуществом и любовью.
Но нет, им не было суждено подружиться. Слишком разные у них были задачи и цели, по-разному их вписали и встроили в загадочный план и чертеж.
– Вот, Николай Николаевич, просили вам передать, – Татьянушкин вернулся в гостиную, протянул доктору маленькую, плотно упакованную посылку. Тот сунул ее в карман – то ли ампулы, то ли таблетки.
– Сейчас будем обедать, – сказал Татьянушкин, заглядывая в столовую, где два молодых человека, похожие на спортсменов, ставили тарелки на стол.
– Мне надо ехать, – сказал врач.
– Я вас могу подвезти, – предложил Калмыков. – Нам в одну сторону.
– Остались бы, пообедали, – уговаривал Татьянушкин.
– Уж мы поедем, – поднялся доктор. – Я должен отвезти медикаменты. Подполковник меня подбросит.
Они вышли на крыльцо, где стояли картонные коробки с лекарствами. Калмыков помог доктору перенести их в машину.
– До скорой встречи! – провожал их к воротам Татьянушкин, дружелюбный, голубоглазый, махал вслед рукой.
Позднее, курсантом, и в первые годы службы, во время увольнений, командировок и отпусков у него было много женщин. В иных он влюблялся. Были увлечения милыми, добрыми, любившими его, дарившими ему свою женственность, нежность. Были мимолетные встречи, от которых оставалось изумление, память о каком-нибудь ресторане, о каком-нибудь гостиничном номере. Были отвратительные грязные встречи, с последующим чувством гадливости к ней, к себе. Были хищные, красивые, властные, верящие в свою власть и в свою красоту. Были беспомощные, жалкие, урывающие малые крохи любви. Были злые, развратные, равнодушные к нему, любившие его плоть, его деньги.
Иногда в самолете, когда качало и начиналось удушье, или на корабле во время морской болезни он пользовался одним приемом, возвращавшим ему телесные силы. Вспоминал женщин, с которыми был прежде близок. Но ни с одной из них он уже не мог испытать того, что пережил в тот московский год. Ни одна из них не могла стать его женой, матерью его детей, продолжить его род. Не было полноты, высшего божественного единства. Не было любви. Не было той черной рогатой веточки, отпечатанной на лунной поверхности.
Калмыков направил машину ко Дворцу по асфальтовой трассе, не той, что вела к батальону, а той, что, скользнув мимо пышного министерства обороны, возносилась вверх по серпантину к порталу Дворца. Несколько раз им навстречу от шлагбаума выскакивал солдат-гвардеец, делал устрашающее лицо, орал сквозь оскаленные зубы: «Дрешь!», что означало: «Стой!» Нацеливал автомат в радиатор машины. Доктор доставал свой особый пропуск, Калмыков предъявлял свой, и солдаты, подозрительно заглядывая внутрь автомобиля, пропускали их дальше.
Второй раз, теперь уже без Джандата, Калмыков подъезжал ко Дворцу, к его желто-медовому, снежно-белому фасаду. За деревьями Дворец казался золотистым заревом. Чувствуя его приближение, Калмыков машинально отмечал и запоминал посты и контрольно-пропускные пункты. Плоский бетонный дот, прикрытый травой, из которого торчал пулемет. Серо-зеленые клинья маскировочных сеток, прикрывающие двуствольные скорострельные пушки. Врытые в гору танки, направившие орудия сквозь прозрачный яблоневый сад в синеватую даль.
Вырулив на последнем витке серпантина, машина остановилась перед стройным порталом Дворца.
– Я вас буду просить о любезности, – обратился к Калмыкову доктор. – Не поможете отнести коробки в аптеку?
Они взяли каждый по большой картонной коробке, но охрана, посмотрев на пропуск Калмыкова, не пропустила его во Дворец.