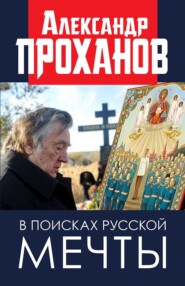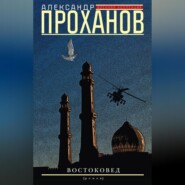По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надпись
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Коробейников лежал на топчане, среди Городов будущего, крестьянских прялок и кос. Испытывал полноту и бесценность своей молодой бесконечной жизни, которая неуклонно, в творчестве и познании раскрывалась в мир, как если бы кто-то любящий, благой и всесильный открывал ему бесконечно расширявшуюся сферу, одаривая драгоценным опытом, осуществляя загадочный, сокрытый до времени замысел.
Услышал, как в сенях в темноте тихо скрипнула дверь. Струнно задрожала лестница. Жена, усыпив детей, ополоснув посуду, поднималась к нему. Чутким мужским слухом он улавливал упругое дрожание лестницы. Она возникла в сумраке из-за полога, в белой нижней сорочке. Он различал белые бретельки на ее голых плечах, длинные босые ноги, смуглый вырез груди, из которого исходило едва видимое теплое свечение. Подошла и легла рядом с ним на топчан. Сенник расступился и зашуршал, принимая ее большое сильное тело. Подушка, наполненная легкой благоухающей травой, опустилась под ее затылком, накрытая жаркими густыми волосами.
– Спят? – спросил он, чувствуя рядом ее округлое душистое плечо.
– Спят… Мне вдруг показалось, что у Васеньки жар. Но, кажется, нет, померещилось…
– Какая вкусная молодая картошка! А ты все сомневалась, сажать – не сажать…
– А как вела себя Строптивая Мариетта? У нее был очень заносчивый вид.
– Я ее хорошенько помыл. Сменил в фаре перегоревшую лампочку. И она вела себя примерно, как настоящая леди.
– Как я рада, Мишенька, что ты вернулся!
Он видел чердачное оконце, где брезжили, сочились мелкие частые звезды и что-то таилось, вглядывалось, прислушивалось из огромного прохладного неба, от которого они были отделены деревянным коробом крыши. Это звездное небо с душистым холодным воздухом, где бесшумно скользнула сова и недвижно чернела береза, не вторгалось на их чердак. Потеснилось, уступая им заповедное, крытое деревянным шатром пространство.
– Те дни, когда тебя нет, – говорила жена, – когда ты в поездках, я так тревожусь. Места не нахожу… Где ты? С кем? Не случилось ли что? Ни обидел ли кто тебя?.. А вдруг тебе повстречался какой-нибудь злой человек? Или какая-нибудь коварная красавица?.. И тогда я молюсь. Поворачиваюсь лицом туда, куда ты улетел, на запад или на восток. Сердце мое само собой открывается, и оттуда словно исходит луч. Отыскиваю тебя вдалеке за горами-морями. Напоминаю о себе, окружаю светом, заслоняю от зла… Ты чувствуешь, как я молюсь о тебе?..
Он чувствовал этот луч, когда в реве, сбрасывая с крыльев солнечную стеклянную бурю, взмывал его самолет. На секунду, во власти слепых и свирепых сил, как крохотная беззащитная песчинка, он вдруг ощущал, что его касается спасительная и благая сила – ее молитва, луч, в котором летела громадная сияющая машина. На стройке, когда в огромном коробе станции, среди бессчетных труб и приборов, пускалась турбина, и в асбестовом кожухе, словно в белом мучнистом коконе, начинала трепетать проснувшаяся громадная бабочка, оживали циферблаты и стрелки, наладчик прикладывал к кожуху длинную слуховую трубу, и от станции в ночь к таежным буровым и поселкам бежали бриллиантовые реки огней, он вдруг улавливал нежное прикосновение, чудесное дуновение – ее пальцы у себя на висках. Вечерами в гостиничном номере, когда из ресторана неслась манящая музыка, мимо дверей по коридору сладко и призывно стучали женские каблуки, раздавался волнующий, зовущий, доступный смех, он чувствовал, как ее невидимая рука касалась его глаз, снимала с их поволоку, и он, засыпая, целовал ее невидимую прохладную руку.
– Целыми днями стирка, плита… Дети хворают, капризничают… Тревоги, заботы, бессонные ночи… Где мое рисование? Где мой театр? Где мои эскизы к костюмам и декорациям?.. Один быт, одна непрерывная, непроглядная круговерть. Правильно ты меня как-то назвал – «чайная баба из цветных лоскутьев»… Но вдруг среди этих беспросветных хлопот, денных и ночных тревог Настенька ко мне подойдет, обнимет своей чудной ручкой, глянет сияющими глазами… Или Васенька вдруг улыбнется своей чарующей улыбочкой… Вот и награда мне за все мои труды и бессонные ночи. Им передала я мои краски, мои театральные спектакли, мои мечты и фантазии…
Он помнил, как она раскрывала мольберт среди красных в немеркнущем свете карельских сосняков. Как сидела с этюдником у бирюзового драгоценного озера, над которым летела гагара, роняя летучую каплю, и на водах расходились сонные заколдованные круги. Она рисовала его портрет, когда он писал рассказ в медовом свете керосиновой лампы, на дощатой стене висели сухие щучьи головы, в оконце беззвучно танцевали паучки и мерцало стеклянное озеро. Он поражался в ней чутким угадыванием его невысказанных желаний и мыслей. Ее колдовским, языческим обращением к природе, где она ловила знамения и приметы, неуловимые знаки на облаках и на водах, словно постоянно отгадывала загадку среди вечерних зорь, туманного месяца, плещущих в утреннем озере серебряных рыб. Там, в карельских лесах, где он работал лесником, она отыскала его, пробираясь, как в сказке, через чащобы и реки в его потаенную лесную избушку.
– Пусть я стала чайной бабой из цветных лоскутьев, но я мою жизнь посвятила тебе. Ты художник, тебе нужна свобода, ты ищешь перемен, новых впечатлений. В своей первой книге ты изобразил меня, описал наши путешествия, нашу чудесную любовь. Мне говорили: «Боже, как замечательно и возвышенно он тебя описал!» Но я ведь знаю, ты станешь искать другие образы, иные впечатления… А вдруг я тебе наскучу? Вдруг ты увлечешься другой?.. Наш с тобой мир такой хрупкий, такой уязвимый, накрыт этим сухим деревянным коробом, за которым притаились опасности, стерегут нас беды… Как нам уберечь наш маленький чудный мир?..
Он чувствовал ее страхи. Высоко, среди звезд, невидимый, шел ночной бомбардировщик. Металлический звук накрывал землю звенящим шатром, словно заворачивал ее в шелестящую фольгу. Легкий, всепроникающий звук просочился сквозь ветхую крышу, поместил их в незримый саркофаг, где они лежали, прижавшись друг к другу. Опустился ниже сквозь потолок в бревенчатую избу, где спали дети. И все они на минуту оказались уловленными этим металлическим звуком, захвачены в непроницаемый кокон, куда их тонко и искусно запаяли. Звук отлетал. Темная тень высотной машины, перечеркивая звезды, смещалась за леса и озера.
– Наш дом, наши милые дети, наша любовь – мы живем на светлом островке, где присутствуют добро, нежность, бережение друг друга. Мы словно очерчены невидимой линией, волшебным кругом, за который не могут перешагнуть напасти и беды. Но они рядом, за этим кругом, я чувствую их присутствие. Ждут, стерегут. Одно наше неверное движение, неосторожная мысль – и круг прорвется, они кинутся на нас, как оскаленные злые волки. Мы должны так беречь этот чудный островок, так хранить его. Каждый вечер я молюсь, чтобы добрая сила нас сберегла и спасла. Ты тоже молись, я прошу…
Он чувствовал ее горячее плечо, исходящую от нее жаркую, нежную, восхитительную силу, обнимавшую его. Чувствовал ее сберегающую женственность и свою от нее зависимость. Был благодарен ей за эту зависимость, преклонялся перед ней. Волшебный круг света среди черного неразличимого мира, где резвились их дети, а они любовались их точеными, перламутровыми телами, на которые из кувшина летела струя воды, – этот серебристый прозрачный круг был очерчен ее любящей охраняющей силой, и она при всей своей беззащитности обладала недоступным ему могуществом, удерживающим и не пускающим зло. Он любил ее, благоговел перед ней, признавал ее над собой превосходство.
– Тогда, в Карелии, когда мы с тобой познакомились и уже стали сужеными, и нам казалось, что навечно поселились в этой сторожке среди красных заиндевелых сосняков, ледяных, сине-зеленых на закате озер, трескучих морозов, и ты являлся в полушубке, застывший, со своим рюкзаком и ружьем, и ставил в сенях широкие малиновые лыжи, похожие на заостренные лодки, – ты помнишь, мы вышли ночью под звезды? Ты описал этот вечер в своей книге. Дорога была накатана, в ночном таинственном блеске окружена высокими черными елями, над которыми ослепительно, грозно, прекрасно сияли огромные зимние звезды. Меня охватило такое счастье, такое ликование, что вот мы с тобой молодые, любящие, не видимые никому, кроме этих громадных переливающихся звезд, шагаем по дивной дороге. Мы избраны, нам во славу зажжены эти торжественные звезды, нам уготовано такое блаженство, такая чудесная судьба. Я все старалась заглянуть в твое лицо, чувствуешь ли ты то же самое. Но ты шел впереди, большой, в валенках, в своем тулупе и косматой шапке, настоящий лесник, и я старалась поспеть за тобой, не поскользнуться на этой гладкой дороге и так любила тебя. Ты шел все быстрей, дорога поднималась в гору, я начала отставать от тебя. Звезды летели над елками как длинные яркие брызги, залетая за черные остроконечные вершины. Ты уходил вперед все дальше, думая о чем-то своем, быть может, о рассказе, который лежал недописанный на шатком тесовом столике возле печки. Ты забыл обо мне. Я подумала, что вдруг так и будет в жизни. Ты уйдешь вперед своим неповторимым путем, все быстрей и быстрей, туда, куда указал тебе твой гений, позвал тебя твой ангел-хранитель, а я останусь. Мне стало больно, страшно. Слезы выступили на глазах, звезды превратились в сплошной слепящий слиток. Ты почувствовал мою боль и беду. Остановился. Вернулся ко мне. Целовал меня в мокрые глаза. Мы медленно, взявшись за руки, брели по пустынной дороге. Было ужасно холодно. Звезды куда-то скрылись, на небе была тусклая мгла. И я подумала, что вот так же под старость, прожив жизнь, уставшие, без сил, мы будем шагать в туманных мглистых сумерках, застывая и немея. Впереди, среди елок, засветило, замерцало. Дорога заблестела, и нам навстречу выкатил автобус, старый, железный, похрустывая своим промерзшим коробом. Ты помахал. Автобус остановился. Шофер пустил нас внутрь. Там не было никого, только продырявленные сиденья, застывшие непрозрачные стекла, спина шофера, сутулая, с поднятым воротником. Мы катили в промерзшем автобусе, среди ледяного железа, скрипов, стуков, слабых поблескиваний на промороженных стеклах. Я подумала, что этот автобус, как челн, везет нас в последний путь – туда, откуда мы вышли. Водитель, как древний перевозчик, переправляет нас через реку жизни в царство теней и тьмы. И в этом – печальный неодолимый закон, под который мы с тобой, как миллионы других, подпали и следуем его неукоснительной воле. Ты описал в своей книге эту притчу о нас…
Он помнил, как она впервые рассказала ему притчу. Как испугался он ее всеведения, печального знания, какое таилось в ней, делало мнимым и временным ее веселую энергию, неутомимую бодрость, ее прелесть и красоту. Эта печаль была и о нем. Обрекала его творческую неукротимую страсть, честолюбивый азарт, неутолимое познание. Неизбежно они обнаружат тщету, незавершенный поиск, разочарование и бессилие. Эта печаль была и о детях, чья нежность и чудная сверкающая краса в конце концов неизбежно померкнут, приблизятся к роковому пределу и канут, превратившись в комочки тусклого праха. Это горькое верование, безнадежное, как античный миф о смерти, говорило, что силы ее не бесконечны, круг, который она очертила, слаб и хрупок, готов разомкнуться, пустить в их драгоценный наивный мир свору оскаленных неистовых чудищ, и она нуждается в его поддержке и помощи.
– А я тебе поведаю другую притчу, – сказал он, осторожно накладывая руку ей на глаза, чувствуя, как щекотят ладонь ее ресницы, словно пойманная бесшумная бабочка. – Когда мы купили эту избу, я впервые сюда приехал, переночевал в нетопленом заиндевелом срубе, едва не угорел от стариковской дымящей печурки, а утром вышел на снег и ахнул. Солнечная белизна до горизонта, в бочке блестящий лед, береза, огромная, белая, с прозрачной розовой кроной, сквозь которую лазурь, морозная свежесть, мерцающие снежинки. Я восхитился: это моя береза, я ее хозяин, она принадлежит мне вместе с чудесной синевой, мерцающим инеем, летящей в вышине хрупкой длиннохвостой сорокой. Это обладание березой было так чудесно, такое во мне было счастливое могущество, что я подошел, обнял ее и поцеловал холодную голубоватую кору. Но те годы, что мы живем здесь, когда родились и растут наши дети, и мы ставили их колыбельки под ее зеленые ветви, и бабушка моя сидела под березой в креслице и дремала со своей бесконечной думой, и наши ночные объятия и ласки, за которыми сквозь оконце наблюдала береза, и мои зимние сидения в избе перед горящей печкой, с рассыпанными по столу листами бумаги, когда я выходил из жаркого воздуха в морозную ночь, и в березе, как в люстре, текли и переливались звезды, колыхался серебряный ковш, крохотная драгоценная звездочка перетекала через тонкую веточку, я вдруг понял, что не береза моя, а я березин. Я принадлежу ей, нахожусь в ее волшебной власти. Она была здесь до меня и будет после меня. Приняла меня, окружила своими соками, своей листвой, звездами, своей бессловесной жизнью, и когда я исчезну, то войду в нее, облачусь ее берестой, стану капелькой ее бегущего сладкого сока, ее клейким листочком, бриллиантовой звездочкой, перетекающей через ломкую ветку.
Наша русская природа примет нас, когда мы утратим временное человеческое обличье, превратит нас в дождь, в одуванчик, в малую льдинку.
Она закрыла глаза, и он больше не чувствовал ладонью трепет ее ресниц. Замерла, словно проникалась услышанным. Медленно, едва касаясь, он повел ладонью над ее лицом. Как слепец, легчайшими прикосновениями угадывал ее разлетающиеся шелковистые брови. Широкий, с кустистыми волосами лоб. Утонченную длинную переносицу с тонкими, чуть дышащими ноздрями. Выпуклые гладкие скулы, от которых исходил едва ощутимый жар. Мягкие пухлые губы, чей рисунок повторял прожилками нежный отпечаток листка. Округлый, с крохотной лункой, подбородок, под которым начиналась теплая длинная шея. Его ладонь была зрячей. Отражала ее лицо. Несла в себе таинственную фотографию, созданную теплым и прохладным излучением ее неподвижного чуткого лика.
Его ладонь скользнула вдоль шеи, где бился пугливый родничок, выталкивая беззвучные фонтанчики тепла. Огладила круглое плечо с шелковой свободной бретелькой, приспустив ее, пробираясь в теплую мягкую глубину, где покоились располневшие после рождения детей, тяжелые, чуть влажные груди. Ее живот под рубахой слабо вздымался, и ладонь ощутила прелестную выемку пупка, жесткий плотный треугольник лобка, источавший жар, который сменился прохладной чистотой ее округлых глазированных бедер. Колени ее были сжаты, и он осторожно проник между ними шевелящимися пальцами. Она была неподвижна, безропотна, покорна ему, подвластна его прикосновениям, и он каждый раз изумлялся ее доступности, чудесной пленительной красоте ее невидимого во тьме, только ему одному принадлежащего тела.
Оконце мерцало ночным таинственным светом, слабо озаряя белые подрамники с фантастическими городами и космическими пернатыми существами. Близкая береза придвинулась к стеклу, и казалось, в глубине недвижных ветвей кто-то замер, молча притаился, прижал к бокам длинные крылья, смотрит на них сквозь оконце немигающими глазами.
Он целовал ее колени, и она, как всегда, сначала их пугливо сдавила, а потом, уступая, раздвинула. Целовал дышащий живот, проникая языком в сладостную лунку пупка, и она, как всегда, мягко, бесшумно вздрогнула. Ласкал губами ее груди, чувствуя, как они тяжелеют, наливаются силой, теплеют, бурно вздымаются, и соски, сжатые его ртом, восхитительно твердеют, расширяя губы.
Он властвовал над ней. Она принадлежала ему. Он будил поцелуями ее дремлющее тело, которое начинало просыпаться в каждой своей клеточке, волновалось, жарко дышало. А он начинал исчезать, лишался своего превосходства, терял свои очертания. Она увеличивалась, росла, становилась огромней его. Расступалась, погружала его в свою темную жаркую глубь, в душную черно-красную бездну. Смыкалась над ним. Он был окружен ею, был в ней. Покидал этот мир, счастливо и страстно стремился туда, где кончалось сознание, ощущение своей отдельности, пропадали все мысли и чувства, кроме жадного, страстного, слепого стремления в раскаленную влекущую тьму. И когда в своем погружении им был достигнут предел, за которым обрывалось бытие и приблизилось желанное запредельное чудо, оконце в светелке бесшумно и ослепительно лопнуло. Сверкающий бурный блеск проник на чердак под крышу, накрыл их тугими бьющими крылами, словно серебряный петух, сорвавшись с березы, влетел в светелку, яростно бил и клевал, а потом отпрянул, разметав по углам завитки рассыпанных перьев.
– Боже мой, – чуть слышно произнесла она.
Он лежал бездыханный. Без лица, без мыслей, без имени. Чистый и белый, как пустое зимнее поле.
Жена ушла, утомленно спускаясь вниз по дрожащей лестнице. Скрипнула дверь в избу. И он остался один на дощатом ложе, где сенник еще слабо звенел, храня длинную теплую выемку от ее тела.
Это были удивительные, странные мгновения между явью и сном. В его безвольный, опустошенный разум, как в расплесканный до дна водоем, начинали стекаться разбрызганные образы, просачиваться струйки чувств, падать тихие капли видений, некоторые из которых не принадлежали его опыту, были не его, а из какой-то иной, с ним не связанной жизни. Словно потеряв хозяина, витали в пространстве, не имели вместилища и, воспользовавшись мгновенной пустотой его сознания, торопливо в него залетали. Это могли быть образы из чьей-то умершей памяти, не нашедшие места в бестелесном сонмище окружавшей землю ноосферы. Или прорвавшееся в его жизнь, мимолетное, как элементарная частица, послание умершего предка, записанное на спираль генетического кода, притаившееся в одной из бесчисленных клеточек мозга. Или разум, лишенный изнурительной воли, выпавший из трехмерного плена, из неумолимо в одну сторону направленного времени, вдруг начинал существовать по иным законам, провидел будущее, забегал вперед, оказываясь в том мгновении, которое еще предстояло прожить.
Он засыпал, удерживая последние секунды исчезающей яви, среди которой возникла серая, незавершенная дуга моста над огромным разливом реки. Зонтичный сочный цветок с зеленым слитком жука и плывущая, в солнце, корова. Стремжинский, беззвучно шевелящий выпуклыми губами, ударяющий пером в черно-белый газетный лист. Какие-то туманные, в песчаной горе, великаны, один подле другого, влиявшие на его жизнь и судьбу. Великаны вдруг выплыли из рыжего тумана, обрели свою громадную плоть, резные огромные пальцы, пустые невидящие глаза, и он, прижавшись к иллюминатору, в разящем блеске винтов мчался в афганском ущелье Бамиан мимо плоских ноздрей громадной буддийской статуи, видел ее раздвинутый в улыбке рот, горчичного цвета лоб. От великаньего лица, навстречу вертолету ударила струя пулемета, прорезая обшивку, и он ощутил жуткую во сне достоверность падения.
Но уже спал, уже клубились в нем, подобно дыму, неразличимые видения, бесконечные завихрения, таинственные облака, словно глаза, повернутые вовнутрь, начинали видеть брожение распавшихся миров, недоступных зрячему разуму.
Проснулся от грома и ужаса. Весь чердак был в жутком багровом свете. Оконце пламенело и плавилось. Огненно-красное, раскаленное, в страшном грохоте, пульсировало небо. За лесами, где была Москва, рвались ядерные смертоносные взрывы. Волны ядовитого пламени летели из-за горизонта, накрывая избу. И жуткая безнадежная мысль – кинуться вниз, схватить детей, мчаться куда-нибудь прочь от истребляющего огня.
Очнулся. Небо было в ранней заре. Над озером клубился летучий розовый пар. По деревенской улице мимо окон шумно катил самоходный комбайн – косить соседнее поле. Коробейников стоял с колотящимся сердцем. Смотрел, как в тумане, розовая на заре, летит чайка.
Глава 5
Когда на время прерывались яростные странствия, огромные, как вдох и выдох, командировки, и Коробейников усаживался в маленьком домашнем кабинете над листами бумаги, стрекоча портативной машинкой «Рейнметалл», своей эстетикой напоминавшей наивные изделия начала века, и весь день проходил в писании, до вечерних сумерек, до сладкого изнеможения, – тогда он спускался к своему красному «москвичу», заводил привередливый, непослушный механизм и катил из Текстильщиков, через всю Москву, в центр, на улицу Герцена, в Дом литераторов. Неповторимое московское место, столь не похожее на стерильно-строгие, чопорно-молчаливые министерства, научные институты, засекреченные заводы и гарнизоны, из которых состоял огромный каменный город с рубиновыми звездами в синем вечернем небе. Дом литераторов был ковчег, куда во время потопа сбежалась и слетелась хрупкая, беспомощная жизнь, уцелевшая от вселенского наводнения. Обсохла, обжилась, распустила перышки, вылизала нарядную шерстку, раскрыла разноцветные бутоны и почки и зажила так, как если бы не бушевала вокруг громадная тяжелая вода, в которой утонули целые поколения и царства.
Было весело и тревожно оставить машину на мокром от дождя асфальте недалеко от входа и войти в святилище, в его теплый, высокий, мягко освещенный вестибюль, где уже с порога тебя ожидали желанные и опасные встречи. С сотоварищами и соперниками, именитыми высокомерными литераторами и шумной бестолковой богемой, с властителями дум и безобидными пропойцами и неудачниками. Ты оказывался в едкой, нетерпеливой, вероломной среде, капризно-непостоянной, льстиво-велеречивой, скандальной, глубокомысленной, печальной, помышлявшей о славе и деньгах, о красоте и глубинном смысле, скрытом среди смертей и рождений. Среде, к которой принадлежал и ты сам, не любя ее и страшась, но почитая за единственно возможную для себя, незаменимую, где ты будешь понят и принят во дни своего успеха и в горькие, неизбежные часы поражения.
У входа, охраняя высокие тяжелые двери, сидели привратницы, костлявые, с тяжелыми лошадиными головами, выпуклыми мослами, похожие на старых породистых кляч в темных ветхих попонах. Сурово и нелюбезно осматривали всех входящих, наводя трепет на молодых визитеров, не имевших писательских билетов. Они были жрицы при входе в святилище, и Коробейников, уже завсегдатай Дома, испытал неисчезающее благоговение и робость при виде их выцветших, окостенелых лиц.
Сразу за этими грифонами в юбках начинался гардероб, где служитель, такой же мемориальный, как и само святилище, снисходительно, с легким презрением, принимал влажный плащ или зонтик, вешая его либо на общие крюки, среди прочих одежд, если ты не слишком именит и желанен и не окормляешь гардеробщика щедрыми чаевыми, либо помещал его отдельно, на вешалку для избранных, где могло уже висеть малиновое пальто поэтической знаменитости, ужинавшей в ресторане с очередной красавицей, или мятый берет славного писателя-деревенщика, выступавшего на творческом вечере, или остроконечный зонт модного беллетриста, заглянувшего выпить рюмочку водки в уютном баре. Коробейников, принимая номерок, не без удовольствия заметил, что его плащ оказался рядом с роскошным макинтошем, какой носил в последнее время баловень шумных поэтических празднеств.
В вестибюле, где уже сновало множество народу, он обменялся несколькими молниеносными взглядами с посетителями, знакомыми и незнакомыми, по-звериному чуткими, любопытными, ищущими среди входивших узнаваемое лицо, к которому можно устремиться с громким, напоказ, возгласом, и тут же на глазах у всех старомодно, по-московски расцеловаться. Или же, напротив, скользнуть в сторону, скрыться за колонну, если лицо по какой-либо причине было неприятным или опасным.
При входе в холл на высоком штативе был выставлен некролог, оповещавший о кончине очередного писателя, на сей раз некоего Гринфельда, чье выведенное черным имя ничего не говорило Коробейникову. Принадлежало к огромному множеству литераторов, авторов каких-нибудь военных стихотворений о вождях и героях или критических статей, порицавших Ахматову и Зощенко. Эти небольшие многочисленные литераторы населяли целый район Москвы у метро «Аэропорт», как ласточки-береговушки. Дружили, ссорились, сплетничали, вылетали на прогулку в соседний скверик и время от времени умирали, оставляя уютные квартирки своей многочисленной еврейской родне. Некролог в Доме литераторов был последней страничкой в литературной судьбе писателя Гринфельда. Перед закрытой дверью, ведущей в малый зал, лежала оброненная еловая веточка, что означало приготовление к завтрашней панихиде, для которой в сумерках затворенного зала были сдвинуты в сторону кресла, выставлен длинный просторный стол, стоял обтянутый кумачом, покуда пустой, пахнущий сырой древесиной гроб. Коробейников мысленно и без всякого сожаления представил в красном гробу сердитое желтоватое личико с крупным носом и фиолетовыми склеенными губами. Спустился в туалет, желая ополоснуть перед ужином руки.
Там он застал комичную и весьма характерную сцену. Два изрядно подвыпивших поэта, обычно являвшихся в Дом литераторов задолго до вечерних сумерек и набиравших в буфете водки, дешевых бутербродов с колбасой и селедкой, теперь, в туалете, среди несвежего кафеля и тусклых зеркал, выясняли, кто из них «последний поэт деревни».
– Ты – графоман и воришка чужих метафор и образов!.. Спер у меня строки: «Средь широких хлебов затерялась деревня…» Я тебе по пьянке читаю гениальные стихи, а ты записываешь и вставляешь в свою туфту… Недаром о тебе говорят: «Все стихи – говно, но встречаются гениальные строчки!..» – нахохлился маленький, воробьиного вида, поэт, нацелив на соперника острый раздраженный клювик.
– Как сейчас дам тебе в лоб, чтоб не врал!.. Чтоб мозги твои тухлые здесь растеклись!.. – белел от гнева второй, крутя крестьянской жилистой шеей, на которой страшно взбухала синяя вена.
Оба родились в деревнях. Писали о заколоченных избах, об обездоленных деревенских старухах, о крапиве и лебеде у родного порога. Обещали в своих стихах вернуться в родимый край и залатать старой матери прохудившуюся крышу избы. Коробейников ополаскивал руки, видя в зеркало, как стоят они среди кафельных стен туалета, готовые подраться, выходцы из русской провинции, обожатели Есенина, дебоширы и выпивохи, пропивающие в буфете свои невеликие деньги и малые таланты.
Коробейников, словно обходя границы своих необширных писательских владений, поднялся на второй этаж, где за дверями в актовый зал раздавался многоголосый взволнованный шум, звучали аплодисменты, рокотал хорошо поставленный голос. Приоткрыл дверь и увидел заполненные ряды, удаленную освещенную сцену, на которой, выступая по грудь из трибуны, возвышался известный литературовед, полноватый, сдобный, с холеной кадетской бородкой, с расчесанными на прямой пробор волосами.
– Именно поэтому, многоуважаемые коллеги, я уповаю на это насущное, наиболее полное для нынешнего литературного процесса определение: «нравственные искания». Ибо в этих исканиях наша литература, не забывая громадные государственные задачи, поставленные партией, не выпуская из вида всенародного коллективистского дела, обращается к обычному человеку с его внутренним миром и поиском. С глубинной нравственностью, без которой невозможна коммунистическая перспектива…
Эти слова он произнес с сочным и вкусным звуком. Эффектно тряхнул волосами, пропустив сквозь белую холеную пятерню свою шелковую бородку.
Зал аплодировал. Слушатели наклонялись друг к другу, улыбались, что-то шептали. По виду некоторых могло показаться, что они шепчут: «Ну и шельма!.. Ну и плут!..»
Литературовед был близок к официальным кругам. Делал стремительную политическую карьеру. Был на редкость умен. Этот новый, введенный им в обращение термин «нравственные искания» объяснял и спасал, пристегивая к партийной доктрине, новые веяния прозы: защиту маленького человека, изнасилованного слепой государственной машиной. Воспевание простого солдата, которым, как винтиком войны, управляли и жертвовали победоносные маршалы. Описание незаметного городского служащего, убегающего в свой однокомнатный мирок от изнуряющей, подконтрольной публичности. Эти литературные веяния вначале подвергались осуждению. Однако, благодаря стараниям умных и тонких политиков, были признаны за благо, объяснены великой русской традицией, поставлены на службу социалистического гуманизма. Коробейников притворил дверь в зал, оставив по другую сторону рокочущие аппетитные звуки.