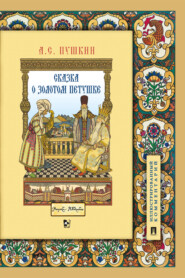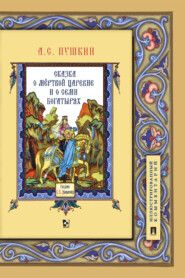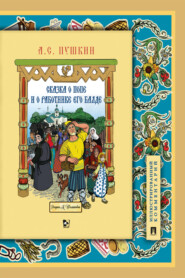По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дубровский. Повести Белкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А кому же как не ему и быть у нас господином, – прервала Егоровна. – Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: вон, старый пес! – долой со двора!
– Ахти, Егоровна, – сказал дьячок, – да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет, и краплет пот, а спина-то сама так и гнется, так и гнется…
– Суета сует, – сказал священник, – и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, все как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не все ли равно!
– Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околодок, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.
Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.
Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в болоте, – он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его… Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки; в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни – подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.
Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.
– Удались от зла и сотвори благо, – говорил поп попадье, – нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. – Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.
Приближаясь, увидел он множество народа; крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.
– Что это значит? – спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. – Это кто такие, и что им надобно?
– Ах, батюшка Владимир Андреевич, – отвечал старик, задыхаясь. – Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..
Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш, – кричали они, целуя ему руки, – не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно, – сказал он им, – а я с приказным переговорю». – «Переговори, батюшка, – закричали ему из толпы, – да усовести окаянных».
Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит», – спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. – «А это то значит, – отвечал замысловатый чиновник, – что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться подобру-поздорову». – «Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти…» – «А ты кто такой, – сказал Шабашкин с дерзким взором. – Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».
– Владимир Андреевич наш молодой барин, – сказал голос из толпы.
– Кто там смел рот разинуть, – сказал грозно исправник, – какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров, слышите ли, олухи.
– Как не так, – сказал тот же голос.
– Да это бунт! – закричал исправник. – Гей, староста, сюда!
Староста выступил вперед.
– Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!
Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть, – закричали дворовые, – ребята! долой их!» – и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.
«Ребята, вязать!» – закричал тот же голос, – и толпа стала напирать… «Стойте, – крикнул Дубровский. – Дураки! что вы это? вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».
Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, – продолжал заседатель, – с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».
– Делайте, что хотите, – отвечал им сухо Дубровский, – я здесь уже не хозяин. – С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.
Глава VI
«Итак, все кончено, – сказал он сам себе, – еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, – подумал Владимир, – он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло.
Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: письма моей жены. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. – Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, – ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол; топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» – спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, – отвечал Архип пошепту, – господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» – спросил он кузнеца.
– Я хотел… я пришел… было проведать, все ли дома, тихо отвечал Архип запинаясь.
– А зачем с тобою топор?
– Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники – того и гляди…
– Ты пьян, брось топор, поди выспись.
– Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было… да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора… Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.
Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, – сказал он, немного помолчав, – не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».
Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» – спросил Дубровский. «Мы, батюшка, – отвечал тонкий голос, – Василиса да Лукерья». – «Подите по дворам, – сказал им Дубровский, – вас не нужно». – «Шабаш», – примолвил Архип. «Спасибо, кормилец», – отвечали бабы и тотчас отправились домой.
Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» – спросил он их. «До сна ли нам, – отвечал Антон. – До чего мы дожили, кто бы подумал…»
– Тише! – прервал Дубровский, – где Егоровна?
– В барском доме, в своей светелке, – отвечал Гриша.
– Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.
Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.
– Все ли здесь? – спросил Дубровский, – не осталось ли никого в доме?
– Никого, кроме подьячих, – отвечал Гриша.
– Давайте сюда сена или соломы, – сказал Дубровский.
Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.
– Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.
– Постой, – сказал он Архипу, – кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.
Архип побежал в сени – двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: Как не так, отопри! и возвратился к Дубровскому.
Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.
– Ахти, – жалобно закричала Егоровна, – Владимир Андреевич, что ты делаешь!
– Молчи, – сказал Дубровский. – Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.
– Отец наш, кормилец, – отвечали люди, – умрем, не оставим тебя, идем с тобою.
– Ахти, Егоровна, – сказал дьячок, – да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет, и краплет пот, а спина-то сама так и гнется, так и гнется…
– Суета сует, – сказал священник, – и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, все как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не все ли равно!
– Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околодок, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.
Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.
Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в болоте, – он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его… Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки; в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни – подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.
Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.
– Удались от зла и сотвори благо, – говорил поп попадье, – нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. – Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.
Приближаясь, увидел он множество народа; крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.
– Что это значит? – спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. – Это кто такие, и что им надобно?
– Ах, батюшка Владимир Андреевич, – отвечал старик, задыхаясь. – Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..
Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш, – кричали они, целуя ему руки, – не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно, – сказал он им, – а я с приказным переговорю». – «Переговори, батюшка, – закричали ему из толпы, – да усовести окаянных».
Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит», – спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. – «А это то значит, – отвечал замысловатый чиновник, – что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться подобру-поздорову». – «Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти…» – «А ты кто такой, – сказал Шабашкин с дерзким взором. – Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».
– Владимир Андреевич наш молодой барин, – сказал голос из толпы.
– Кто там смел рот разинуть, – сказал грозно исправник, – какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров, слышите ли, олухи.
– Как не так, – сказал тот же голос.
– Да это бунт! – закричал исправник. – Гей, староста, сюда!
Староста выступил вперед.
– Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!
Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть, – закричали дворовые, – ребята! долой их!» – и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.
«Ребята, вязать!» – закричал тот же голос, – и толпа стала напирать… «Стойте, – крикнул Дубровский. – Дураки! что вы это? вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».
Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, – продолжал заседатель, – с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».
– Делайте, что хотите, – отвечал им сухо Дубровский, – я здесь уже не хозяин. – С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.
Глава VI
«Итак, все кончено, – сказал он сам себе, – еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, – подумал Владимир, – он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло.
Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: письма моей жены. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. – Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, – ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол; топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» – спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, – отвечал Архип пошепту, – господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» – спросил он кузнеца.
– Я хотел… я пришел… было проведать, все ли дома, тихо отвечал Архип запинаясь.
– А зачем с тобою топор?
– Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники – того и гляди…
– Ты пьян, брось топор, поди выспись.
– Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было… да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора… Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.
Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, – сказал он, немного помолчав, – не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».
Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» – спросил Дубровский. «Мы, батюшка, – отвечал тонкий голос, – Василиса да Лукерья». – «Подите по дворам, – сказал им Дубровский, – вас не нужно». – «Шабаш», – примолвил Архип. «Спасибо, кормилец», – отвечали бабы и тотчас отправились домой.
Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» – спросил он их. «До сна ли нам, – отвечал Антон. – До чего мы дожили, кто бы подумал…»
– Тише! – прервал Дубровский, – где Егоровна?
– В барском доме, в своей светелке, – отвечал Гриша.
– Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.
Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.
– Все ли здесь? – спросил Дубровский, – не осталось ли никого в доме?
– Никого, кроме подьячих, – отвечал Гриша.
– Давайте сюда сена или соломы, – сказал Дубровский.
Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.
– Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.
– Постой, – сказал он Архипу, – кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.
Архип побежал в сени – двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: Как не так, отопри! и возвратился к Дубровскому.
Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.
– Ахти, – жалобно закричала Егоровна, – Владимир Андреевич, что ты делаешь!
– Молчи, – сказал Дубровский. – Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.
– Отец наш, кормилец, – отвечали люди, – умрем, не оставим тебя, идем с тобою.