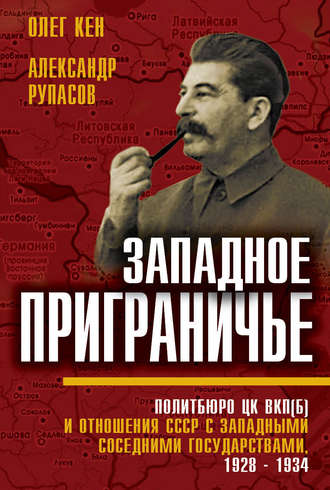
Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934
Проблема, думается, лежит в иной плоскости. Предложенный выше краткий критический анализ предостерегает против непосредственного восприятия «кремлевских тайн», зафиксированных в протоколах Политбюро. «Откровенность» и «красноречивость» немногих постановлений Политбюро обладала тем же общим функциональным смыслом, что и клишированность и лапидарность основной массы его решений. Во всех рассмотренных вариантах – подробная мотивация, косвенное указание на мотивы и полное отсутствие такого компонента в постановлениях Политбюро – этот смысл определялся не столько непосредственной информационной насыщенностью сообщения, сколько его социально-коммуникативными аспектами, и был связан с феноменом «сталинских сигналов» (как назвала его Ш. Фитцпатрик). Она отмечает парадоксальность положения, при котором режим, известный требовательностью к исполнению директив Центра, избегал «ясности в формулировании политической линии». «Фактом является, однако, то, что важные изменения в политике скорее «сигнализировались», чем сообщались в форме ясной и детальной директивы. Сигнал мог быть дан в выступлении и статье Сталина, или в редакционной статье, или обзоре в «Правде», или же посредством показательного процесса, или в форме опалы заметной фигуры, связанной с определенными тенденциями политического курса», – констатирует американский историк[42]. Предназначенные для распространения в среде правящей элиты[43], протоколы Политбюро выполняли сходное предназначение. Они подавали сигнал исполнителю и более широкому кругу «читателей». Если, например, сжатое «багажа не вскрывать» было адресовано руководителям ОГПУ и НКИД, ждавшим указаний относительно имущества г-жи Озолс[44], то почти одновременно принятая директива «в разговоре с румынами исходить из решения правительства СССР по бессарабскому вопросу о плебисците, обусловленном всеми гарантиями для свободного выявления населением его отношения к этому вопросу», имело в виду более широкие потребности. Партийно-государственной верхушке, встревоженной непредвиденным исходом кампании за подписание Московского протокола, Политбюро «сигнализировало», что на новые уступки Румынии оно не пойдет. Пышная фраза о гарантиях свободного волеизъявления, исходившая из круга признанных специалистов по самоопределению народов, подавала иронический знак, понятный партийному общественному мнению. Не будь нужды в расширении поля принятия этого «сигнала», Политбюро, в соответствии с обычной практикой, несомненно, поставило бы точку вместо запятой в середине фразы[45].
Новые исследования и наблюдения позволяют подтвердить издавна существовавшее представление о том, что практика «конспирации» и «сигнализации» «сознательно или бессознательно» использовалась правящим режимом для укрепления и освящения своей власти, придания ей сакральных свойств[46]. Применительно к сухим протоколам ПБ ЦК ВКП(б) эти характеристики, думается, чрезмерно метафоричны. Несомненно, однако, что поиски устойчивой легитимации и организации власти, занимавшие Сталина и его коллег по Политбюро, во многих важных отношениях следовали проложенными (и замшелыми) историческими тропами. Отрицание принципов, на которых основывались современные государственные институты, заставляло большевистский режим подкреплять властные механизмы архетипическими ритуальными нормами. Архаизация методов управления экономикой в конце 20-х – начале 30-х гг. дала сильный импульс «опрощению», примитивизации способов осуществления власти в целом[47]. Почти одновременно завершилось изгнание из правящей элиты «инородных» групп, оппозиционная деятельность которых являлась попыткой, в частности, заставить партийное большинство уважать современные, «парламентские» методы борьбы[48]. Осуществлявшиеся под лозунгом «модернизации» перемены обескровили современные элементы культуры большевизма; дискуссия об «азиатском способе производства» и взаимоотношения Петра и Ивана с боярством оказались ближе к актуальной политической проблематике режима, чем французский коммунальный эксперимент 1871 г. Неудивительно поэтому, что официальные записи высшего органа власти несли на себе отпечаток забот, во многом характерных для возносящихся элит традиционных обществ – укрепление социального престижа высшей инстанции, стабильное функционирование иерархически подчиненных уровней власти при одновременном демонстрировании лояльности к старинным родоплеменным институтам (или уставу и традициям большевистской партии – коллективности руководства, партийной демократии и проч.)[49].
Особенности языка протоколов Политбюро не только отражают их прикладное назначение и бюрократическую рутину, но и свидетельствуют о формировании дискурса – особого использования языка для выражения устойчивых психоидеологических установок «инстанции». Этот дискурс предполагал и создавал особого «идеального адресата», un Destinaire idéal, по определению П. Серио[50], – такого типа «воспринимателя» высказывания, который «принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу осуществиться; при этом дискурс-монолог приобретает форму псевдодиалога с идеальным адресатом, в котором (диалоге) адресат учитывает все пресуппозиции»[51]. Тенденция к сжатию смысловых компонентов, являющихся условием истинности суждения (например, анализа международной ситуации), в текстах протоколов возмещалась широкой эксплуатацией прагматической пресуппозиции. Утверждения типа «считать целесообразным при проезде через Париж встречу т. Литвинова с Поль-Бонкуром, если соответствующее предложение т. Литвинову будет сделано» дарили адресату подсознательную уверенность в том, что такое решение является единственно правильным, поскольку смысловое обоснование подменялось прагматической суппозицией – чем-то само собой разумеющимся для источника высказывания (в самом деле, странно было бы отказываться от приглашения встретиться и поговорить, если оно исходит от представителя страны, с которой установились неплохие отношения!). Практика умолчаний приглашала адресата, принявшего эти правила игры, к сотворчеству, достраиванию отсутствующих в тексте компонентов по аналогичному образцу. Желающий «понять» резолюцию «багажа не вскрывать» мог легко дополнить это высказывание известными ему «ввиду нецелесообразности», «мы не заинтересованы в обострении отношений с латышами» и прочими прагматическими (или псевдосемантическими) пресуппозициями. В результате отрывистые монологичные постановления трансформировались в «псевдодиалог» авторов с читателями. Осуществляемые через систему рассылки протоколов и ознакомления с ними, систематические упражнения в заочных вертикальных собеседованиях (в разных формах проходящих через всю советскую эпоху) вырабатывали поистине «идеального» участника социально-языковой игры[52].
«Дискурс Политбюро» приглашал адресатов к «диалогу» с «инстанцией» и вместе с тем вводил его в жесткие рамки. На такое социальное значение языковых клише, столь характерных для языка протоколов Политбюро, еще в 30-е гг. обратил внимание академик А.Д. Сперанский. Начав с утверждения, что Сталину «чужды заботы стилиста», он нечаянно пришел к заключению: «Он не боится повторений. Мало того, он ищет их. Они у него на службе. Он, как гвоздем, прибивает к сознанию то, что является формулой поведения»[53]. «Формула поведения» исполнителей и даже участников принятия решений Политбюро, культивировавшаяся стилем его протоколов, состояла в старательной ограниченности – добровольном отказе от видения общих задач, издании и буквальном исполнении частных директив[54]. Протоколы Политбюро свидетельствуют, что в его недрах уже в конце 20-х гг. (когда Генеральному секретарю еще приходилось выступать с длинными полемическими речами) рождалось понимание таинственной краткости как средства повышения авторитета власти. Описывая присущую «архетипу высокой престижности» сдержанность во всех проявлениях жизненной энергии, исследователи отмечают: «Обычно говорят, что царь с трудом двигался, так как на нем была тяжелая одежда, однако можно сказать и наоборот: царь надевал тяжелую одежду для того, чтобы не иметь возможности быстро двигаться»[55]. С не меньшим основанием можно утверждать, что неясность резолюций Политбюро была вызвана не столько функциональной необходимостью заключить их в броню краткости (в нее облачали и самые тривиальные решения), не только обремененностью множеством дел (в приложения к протоколам Политбюро нередко включались проекты постановлений и дипломатических нот, которые на следующий день должны были распространяться миллионными тиражами), но и стремлением придать всей процедуре decision-making величавость, достойную древнего Кремля, окружить ассигнование 30 тыс. рублей ореолом эзотерической недосказанности и, в конечном счете, утвердить социальную дистанцию между источником верховной власти и иерархически соподчиненными сферами исполнителей ее воли.
Широкое понимание функций официальных записей Политбюро как социально-культурного феномена позволяет лучше понять их некоторые делопроизводственные особенности, в частности параллельное составление «обычных» и «особых» протоколов, направление выписок из «особых протоколов», отсутствие стенограмм заседаний Политбюро.
Начиная с 1923 г., в преддверии развязки национально-революционного кризиса в Германии, Политбюро ЦК РКП(б) перешло к новой системе фиксации своих решений[56]. Они крайне неполны, и отсутствие в них, в числе прочих лакун, сопроводительных документов и постановлений «особой папки» может быть вызвано позднейшей обработкой дел в архиве ЦК КПСС. Наиболее масштабные секретные постановления стали исключаться из корпуса «строго секретных» протоколов и заноситься в протоколы Политбюро с грифом «особая папка» («совершенно секретно») с оставлением в исходном протоколе пометы «Решение – особая папка». Несмотря на различный уровень секретности, между «особыми» и «обычными» протоколами существовало полное совпадение в формулировках вопроса и указании лиц или учреждений, представивших его на усмотрение Политбюро[57]. Обозначенные в «совершенно секретных» протоколах одним или двумя инициалами, докладчики и лица, деятельность которых стала предметом решения Политбюро, не расшифровывались и в «особых» протоколах[58]. Как правило, все содержание принятого решения относилось к одному из двух видов протоколов, и оно заносилось в него целиком[59]. Постепенно практика придания части постановлений более высокой степени секретности привела к образованию двух параллельных систем записи постановлений, при которой решения, принятые на заседании Политбюро и в промежутках между заседаниями, распределялись между «обычными» и «особыми» протоколами, так что к началу 30-х гг. количество «особых протоколов» фактически совпало с числом заседаний Политбюро и необходимость в дополнительной нумерации отпала.
Число документов, относимых к наиболее конфиденциальным, быстро росло; «особая папка» пополнялась в значительной мере за счет перенесения в нее большинства внешнеполитических дел. Если не считать вопросов о назначениях представителей СССР за рубежом (полпредов, торгпредов, военных атташе, руководителей и членов делегаций на международных конференциях и т. д.[60]), то в «особую папку» направлялись все иные постановления Политбюро по проблемам взаимоотношений СССР с внешним миром, независимо от того, насколько важным или секретным было существо конкретного решения. Часть внешнеполитических постановлений, однако, продолжала фиксироваться в «обычных» протоколах, копии которых подлежали более широкому распространению, нежели «особые папки». Выявить определенные правила, которыми руководствовалось Политбюро (или Секретарь ЦК ВКП(б), руководивший провесом подготовки и принятия решений, подписывавший протокол) при распределении своих постановлений между двумя видами протоколов, оказалось невозможным. Можно констатировать лишь, что все решения по экспортно-импортным операциям, осуществлявшимся сверх ранее утвержденного валютного плана, – будь то, например, закупка свиней на 30 тыс. рублей или приобретение картин за 2 тыс. рублей[61] – никогда не заносились в рассылочные «обычные» протоколы. Этот подход отчасти объяснялся тем, что финансовые аспекты самих валютных и экспортно-импортных планов относились к категории повышенной секретности, источником дополнительных ассигнований являлся, как правило, «торгово-политический контингент» – резервный фонд валюты, о существовании и тем более размерах которого знал крайне узкий лиц, отчасти – в стремлении избежать ревнивых претензий со стороны ведомств, которым в дополнительных тратах отказывалось[62]. Среди постановлений по международным делам, включенных в обычные протоколы, удельный вес решений о снятии с повестки дня или откладывании поставленного вопроса был выше, чем других (о принятии предложений ведомств, внесении в них изменений и т. д.)[63]. Четкой содержательной или тематической границы при распределении внешнеполитических решений между двумя видами протоколов не существовало. Так, в сентябре 1933 г. – январе 1934 гг. Политбюро четырежды рассматривало вопросы об организации воздушного сообщения между Польшей и СССР. Два из них, имевшие принципиальное политическое значение, – о принятии предложений НКИД на этот счет (сентябрь 1933 г.) и об отказе от продолжения переговоров с Польшей (январь 1934 г.) – вошли в «обычные» протоколы ПБ. Два других постановления, касавшиеся хода авиационных переговоров (ноябрь 1933 г.) – были отнесены к категории «особая папка»[64]. 26 и 27 июля 1934 г. Политбюро утвердило решения под одинаковым названием («О посылке хлеба пострадавшим от наводнения в Польше»), причем одно из них как «строго секретное» вошло в «обычный» протокол, а другое – в «особый»[65]. Вряд ли можно объяснить деловыми мотивами (в том числе, соображениями конфиденциальности) тот факт, что два решения 1933 г. о советско-польских торговых соглашениях оказались доступны всем получателям протоколов Политбюро, а постановление вступить в переговоры с Польшей о координации продаж двойных шпал из лиственницы было заключено в «особую папку»[66]. Не исключая элементов делопроизводственного произвола, приходится признать, что параллельное ведение двух видов протоколов ПБ имело некие дополнительные функции, а распределение между ними вопросов внешнеполитической проблематики вызывалось мотивами, лежащими в иной сфере. Вероятно, эта практика отражала и конструировала определенный тип взаимоотношений Политбюро с адресатами его протоколов. Для представителей правящего слоя, получавших «обычные» протоколы, поддерживалась иллюзия их «причастности» к международной деятельности Политбюро. Значение имело не существо тех или иных частных решений, которые сохранялись в этих протоколах, а сам факт наличия в них записей о проводимых внешнеполитических акциях – перечней вопросов повестки дня и немногих содержательных постановлений. Вместе с тем перенесение в «особые папки» подавляющего большинства внешнеполитических резолюций подтверждало исключительность положения группы избранных, знакомившихся с их содержанием. Иерархичность протоколов Политбюро воспроизводила и акцентировала статусные различия внутри узкого правящего слоя[67].
О решении Политбюро, включенном в «обычный протокол», его исполнитель должен был узнать из посылаемой ему выписки, но также и из рассылаемого общего текста. При этом должностное лицо (или лица), ответственное за осуществление решения Политбюро, в протокольной записи не указывалось; неясно поэтому, кем и как определялся адресат направляемой выписки (вероятно, Секретный отдел направлял ее либо руководителю соответствующего органа, либо докладчику или автору записки в Политбюро). Фиксация постановления в «особом» протоколе влекла за собой персонализацию ответственности исполнителя перед Политбюро: большинство резолютивных записей сопровождалось указанием «Выписка послана т…». В тех случаях, когда постановление содержало несколько пунктов, относившихся к сфере деятельности различных партийных и государственных органов, представителю каждого из них направлялась выписка из соответствующей части постановления. Как правило, выписки по международным делам адресовались наркомам, их заместителям, членам Коллегии. Выписка могла отправляться как в московское учреждение, так и, в виде шифровки, в республиканские партийные органы (например, в Минск или Киев). В тех случаях, когда прямым исполнителем директивы Политбюро оказывалось должностное лицо, находившееся за рубежом (будь то полпред или находящийся в служебной поездке нарком), выписка была адресована одному из находившихся в Москве руководителей наркомата. Пересечь границу Союза ССР могла шифрованная телеграмма НКИД в зарубежное полпредство (текст которой мог быть утвержден на заседании Политбюро), но ни в коем случае не «выписка», сколь бы внешне бессодержательной она ни была. Единственный известный факт направления за пределы СССР выдержки из протокола Политбюро относится к началу 20-х гг. и связан с весьма специфической обстановкой. В 1922 г. нарком Чичерин в своем письме полпреду в Финляндии полностью воспроизвел фрагмент протокола с постановлением Политбюро, рекомендуя адресату не предпринимать шагов к выполнению некоторых из намеченных в нем мер[68]. Отмеченная выше краткость большинства постановлений Политбюро означала, что выписка из протокола лишь условно выполняла функцию передачи исполнителю информации о существе директивы, особенно если он лично присутствовал на заседании Политбюро. Так, выписка, направленная Литвинову (с соблюдением, надо полагать, всех мер предосторожности) по итогам «решения Политбюро» «О Чехо-Словакии» гласила: «Вопрос снять»[69]. Если Литвинов, представивший свои соображения на этот счет, присутствовал при принятии решения, выписка не несла для него полезной информационной нагрузки, если же дело разбиралось в его отсутствие, она ничего не сообщала о политических мотивах решения, об отношении Политбюро к существу поставленных в инициативной записке проблем.
Создается впечатление, что система рассылки выписок являлась в значительной мере символической процедурой. Направлением выписки Политбюро утверждало прямую – поверх институциональных барьеров – связь между своей волей и обязанностью избранного им в исполнители лица. По следам решения о начале торговых переговоров с Латвией (август 1932 г.), Б.С. Стомонякову, назначенному Политбюро руководителем советской делегации, была направлена выписка, включавшая только пункт о его назначении. Другая часть постановления («довести до сведения Лат[вийского] пра[вительства], что мы готовы приступить к переговорам в Москве в середине сентября») была сообщена только М.М. Литвинову[70]. Разумеется, Стомоняков был осведомлен о сроке начала переговоров, а Литвинов – о том, что его заместитель назначен главой советской делегации. Тем не менее, Политбюро сочло нужным демонстративно вмешаться в распределение ролей между наркомом и его заместителем при осуществлении своего решения. Информационная незначительность выписки для того, кто уже получил устное распоряжение Политбюро, восполнялась другими ее функциями: напоминанием о фиксации буквальных обязанностей получателя перед «инстанцией»; подтверждением положения адресата на нетвердых ступеньках иерархической лестницы и, наконец, установлением взаимосвязи между полученным указанием и статусом получателя в политико-бюрократической системе. В феномене «выписок» дополнительно раскрывалась символическая насыщенность «постановлений Политбюро»; прозаическая «выписка» функционировала как жест власти, неоспоримый по определению[71].
В контексте высказанных соображений о конспиративности и функциональности протоколов ПБ ЦК ВКП(б) и их символической природе представляется симптоматичным неуспех попыток обнаружить стенограммы заседаний Политбюро конца 20-х – начала 30-х гг.[72]. Регламент работы Политбюро предусматривал стенографирование докладов и заключительных слов, а в некоторых случаях – и выступлений в прениях. Известно, что в начале 20-х гг. при обсуждении важнейших внешнеполитических дел на заседаниях Политбюро велись если не стенографические, то подробные секретарские записи, в которых излагались мнения его членов[73]. Однако единственное в конце 20-х гг. упоминание в протоколах Политбюро о его стенограммах имеет негативный отпечаток: «Воспретить всем, получающим оригиналы стенограмм заседаний Политбюро и пленумов ЦК для исправления, снятие с них для себя каких бы то ни было копий»[74]. Вероятно, после подавления «правого уклона»[75] запись дебатов в Политбюро прекратилась. На заседаниях Оргбюро (по крайней мере, до 1931 г.) такие записи изредка велись, с указанием в протоколе, что «вопрос стенографировался»[76]. Подобные отметки делались и в протоколах Политбюро середины 20-х гг. Нельзя исключать, что такого рода пометы и даже сами стенограммы могут быть обнаружены в пока недоступных коллекциях материалов Политбюро. Однако механизмы фиксации решений, отраженные в протоколах Политбюро конца 20-х – начала 30-х гг., делают крайне маловероятным существование массива официальных стенограмм или секретарских записей («конспектов») его заседаний этого периода, в особенности, посвященных обсуждению проблем внешней политики. Более перспективным для реконструкции дискуссий в Политбюро представляется поиск личных записей, сделанных в ходе заседания[77] или непосредственно после него[78], а также анализ сопроводительных материалов, изучение исправлений, внесенных в проекты решений, и других помет в черновых протоколах Политбюро[79].
II
Рассмотрение особенностей протоколов Политбюро с точки зрения их социально-знаковой природы позволяет обратиться к процедурам и реальным обстоятельствам, предшествовавшим фиксированию его решений, – внесению вопросов в Политбюро, формированию его повестки дня, способам принятия решений, распределению ролей между членами руководства, участвовавшими в этом процессе.
Внесение предложений в Политбюро. Инициатива рассмотрения Политбюро международных дел в большинстве случаев исходила от центральных советских ведомств. В некоторых случаях с предложениями, носящими международно-политический смысл, выступали нижестоящие партийные инстанции. На протяжении 20-х гг. процедура внесения в Политбюро таких запросов и предложений вполне определилась и в 1929–1931 гг. подвергалась лишь частичному пересмотру. По мере увеличения объема и разнообразия дел, подлежавших представлению в Политбюро (что отчасти объяснялось стремлением партийно-государственной бюрократии сложить с себя часть ответственности), необходимость соблюдения ригористических процедур подачи предложений в Политбюро усиливалась. Для получения санкции Политбюро заинтересованное ведомство должно было представлять по вносимому вопросу «письменный материал», включавший объяснительную записку и проект постановления Политбюро. В конце 1929 г. разрешенный объем такой записки был увеличен до 5—10 страниц. Материал должен был поступить к полудню 9, 19 и 29-го числа каждого месяца (т. е. за шесть дней до дня заседания)[80]. В ноябре 1931 г. Политбюро распорядилось уменьшить размер представляемых материалов до 4–5 страниц[81]; через десять дней это решение было пересмотрено, и их объем увеличен до 8 страниц[82]. В 1929–1930 гг. утвердилось правило «не ставить в повестку ПБ» вопросы, по которым получены устные обращения или даже письменные просьбы без приложения «материала по существу вопроса». Политбюро отступало от него «в особо исключительных срочных случаях»[83].
Образцом следования этой процедуре можно считать документ, представленный в Политбюро заведующим Агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б) А.И. Криницким, т. е. исходивший из аппарата ЦК ВКП(б). Записка, размноженная литографическим способом (с нумерацией экземпляров), была адресована «в Политбюро ЦК» и снабжена грифом «с. секретно». На трех страницах убористой машинописи излагалась предыстория вопроса и принятые ранее «решения ЦК» (т. е. Политбюро), новые обстоятельства, цели предлагаемой акции, доводы оппонентов вносимого предложения, пояснение о практических шагах, которые повлечет его принятие и, наконец, проект постановления Политбюро[84].
Изучение около ста записок такого рода (исходивших, по большей части, из НКИД, а также из НКВТ, НКВМ и НКЛеса) позволяет утверждать, что обычно руководители ведомств ориентировались на стереотипную структуру обращения в Политбюро, прослеживаемую в записке Криницкого. Вместе с тем, в резолютивной части документа учитывался стиль постановлений Политбюро, их тяготение к односложности; этим, надо полагать, в значительной мере объясняется частое отсутствие проектов решения в составе «письменных материалов», особенно когда оно «напрашивалось»[85]. Применительно к вопросам, инициировавшимся НКИД, порядок часто не соблюдался, в особенности, когда записки в Политбюро исходили от М.М. Литвинова. Так, в письме (на полутора страницах) секретарю ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановичу 19 сентября 1933 г. он предложил Политбюро принять постановление по двум вопросам (лишь отчасти связанным между собой) – о целесообразности заключения пакта о ненападении между СССР и Грецией и об отношении СССР к многостороннему договору ненападения с участием Турции, Персии, Ирака и Великобритании (Саадабский пакт). Литвинов не только не предложил формального проекта решения, но и уклонился от изложения сути вопроса, сославшись на то, что она известна адресату «из шифровок»[86]. Двумя днями позже М.М. Литвинов направил Кагановичу записку «О воздушной линии Варшава – Москва», которая, несмотря на отсутствие проекта постановления, в целом соответствовала стандартной форме вносимых в Политбюро материалов. По всей вероятности, структурные и стилистические различия записок-предложений в Политбюро объяснялись не столько авторством, сколько кругом их адресатов. Если первый из названных документов был посвящен политико-дипломатическим вопросам, находившимся в исключительной компетенции НКИД, и потому мог быть санкционирован руководством Политбюро (например, путем проведения опроса членов Политбюро) без выслушивания иных мнений, то второй материал имел межведомственное значение, и его рассылка была произведена в тринадцати экземплярах – всем членам Политбюро, Тухачевскому и Алкснису (НКВМ), Ягоде (ОГПУ)[87].

