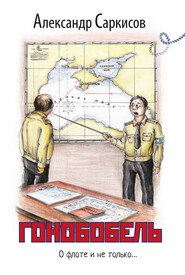По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Альма-фатер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Объявление, товарищ полковник.
– Я вижу, что не Джоконда! Открыть баки!
Все рухнуло в одночасье. Крыжаковский был грибник. Уже через час взвод в противогазах выгружал содержимое баков в самосвал.
Расписова с командиром роты вызвали на ковер. Пройдя в Адмиральский коридор, они остановились перед кабинетом начальника училища. БПК смотрел на дверь кабинета как на Стену Плача. Вышел старший мичман, адъютант начальника.
– Борис Петрович, проходите, а вы, курсант, обождите в коридоре.
Ожидая БПК, Шурик рассматривал полотна великих маринистов. Они украшали Адмиральский коридор.
Минут через десять появился командир роты. Постукивая кулаком по ладошке, он растерянно бормотал:
– Вот так, отвечай, Козюля. Понаберут, бля, на флот, а виноват Козюля.
– Товарищ командир, ну что?
– Мне выговор, вам трое суток губы. При чем здесь Козюля?
На картине Айвазовского догорал турецкий флот.
Один день Матвея Идрисовича
Родился Мотя тринадцатого июля, в пятницу, и случилось это в високосном 1956 году.
В том году состоялся ХХ съезд КПСС, на котором развенчали культ личности, провели операцию «Вихрь» по подавлению антисоветских волнений в Будапеште и приняли постановление ЦК КПСС «Об орошении и освоении целинных земель».
Все это, вместе взятое, ничего хорошего мальчику не сулило. Будущее его было предрешено и печально.
Рос Мотя в семье потомственных каторжан. Мать его, Ида Иосифовна Либерман, была дочерью репрессированных троцкистов-бухаринцев, а отец, Идрис Валиевич Челебиджихан, – сыном депортированных из Крыма татар.
Жила семья двойной жизнью. На работе, сидя под портретом генерального секретаря ЦК КПСС, строили светлое коммунистическое будущее. Вечерами же, закрывшись на кухне, шепотом гордились своими предками и эзоповым языком выражали свое недовольство коммунистическим строем и лично товарищем Брежневым.
Несмотря на то что, кроме них и чайного гриба, многозначительно пузырившегося в трехлитровой банке, на кухне никого не было, в безопасности они себя не ощущали.
Вот и Мотя с детства был привычен к двуличию. В детском саду под портретом лукаво улыбающегося Ленина он вместе с другими детишками учил стихи Михалкова, а вечерами на кухне, затаив дыхание, вкушал настоящую правду.
Шли годы, и наступило время получения советского паспорта и призыва в ряды вооруженных сил. Наступило неожиданно и одномоментно. Остро встал вопрос с выбором фамилии и национальности. После долгих дебатов на кухне пришли к выводу, что фамилия Челебиджихан хоть и не сахар, но все же безопаснее, чем Либерман.
С национальностью было сложнее, решили подмазать знакомую паспортистку и записать Мотю русским. Получилось интересно – Матвей Идрисович Челебиджихан, русский. Паспортистка долго смеялась, ей самой настолько понравилось, что денег за услугу она не взяла.
Полдела было сделано, но оставался вопрос со службой. Идти в армию мальчику из непростой интеллигентной семьи никак нельзя. Но и отлынуть от службы было невозможно.
Решение приняли: как и водится у матерых интеллигентов, ни вашим ни нашим. Отправили Мотю поступать в военно-морское училище – вроде как на службе, а вроде и учится.
Тяжела и незавидна жизнь курсанта, а уж первокурсника и подавно. Привыкнуть к этому невозможно, можно только пережить. До второго курса дотягивали далеко не все.
Зимние ночи в Ленинграде долгие и лютые. Ветер с залива нагоняет мороз и снег.
Ровно в семь ноль-ноль прозвучал звонок, долгий и пронзительный.
Дежурный по роте дурным голосом проорал:
– Рота, подъем! Построение на зарядку через пять минут! Форма одежды – брюки, тельник!
Старшина роты вывел недоспавших юнцов на пробежку. Хоть и утро, а на улице темень. Первые прохожие, зябко кутаясь в шубы, с жалостью смотрели на курсантов, которые в одних тельняшках наворачивали круги вокруг училища.
Стук прогаров по наледи, звон сполошного колокола в ушах, мороз иглами в морду да окрик старшины: «Не растягиваться! Подтянись на шкентеле!»
Через тридцать минут, тяжело дышащие, с нерастаявшим снегом на голове, вернулись в ротное помещение.
– Разойдись!
Все наперегонки бросились к своим тумбочкам. Схватив мыльно-рыльные принадлежности и накинув на плечо вафельное полотенце, Мотя одним из первых добежал до умывальника. Народу в роте много, а умывальников мало, а времени на то, чтоб умыться да оправиться, и того меньше.
Мотя провернул вентиль, ледяная вода брызгами полетела на его голый торс. Медный сосок покрылся испариной. Вымыть руки и лицо было еще ничего, терпимо, но вот почистить зубы было мукою адовой. Зубы ломило, эмаль потрескивала. Собрав всю волю воедино, Мотя прополоскал рот и крепко зажмурился, пережидая боль.
Наскоро вытерев лицо, Мотя пристроился к писсуару и расслабился. Над писсуаром густо парило.
В дальнем углу на дучке кто-то натужно кряхтел и ерзал, стараясь побыстрее опростаться. На утреннюю приборку опаздывать никак нельзя.
После развода на приборку Мотя с тремя товарищами взял из кранца с приборочным материалом четыре щетки и две сметки. Объектом приборки у них был факультетский коридор. Длинный, широкий, уложенный паркетом коридор.
Мотя заученным движением закатал правую штанину и просунул ногу в крепление щетки. Паркет нужно было натирать тщательно, вдоль паркетного рисунка, до блеска. Особенно у плинтусов – к этому начальство придиралось с завидным постоянством.
Пыхтел Мотя в меру, без фанатизма, понимал, что работа, она о двух концах: для себя делаешь – качество давай, для начальника – дай показуху.
Закончив натирать, Мотя сметкой прогнал мусор в конец коридора. Паркет горел янтарем – может, сегодня и не заругают. Хотя за что взгреть, всегда найдется.
Роту построили и повели на завтрак. В столовой рассаживались по четверо. У каждого было свое место. Вестовые разносили чай. Собственно, чаем это и не назовешь. Нормы курсантские скудны, а тут еще камбузные работники воровали без зазрения совести.
Мотя рассматривал шлепок полуостывшей колышистой каши. Взял кусок сахара, вымочил его в чае и бросил в кашу. Теперь это можно есть. На один кусок хлеба намазал масло, другой спрятал за пазухой.
Дежурный посмотрел на часы.
– Закончить прием пищи!
Мотя торопливо впихнул в себя остаток хлеба с маслом, зачерпнул ложкой сладкую кашу и запил все это теплой бурдой из кружки.
Роту построили для утреннего осмотра. Мероприятие это командир роты проводил лично.
Командовал он зычно, с протягом:
– Рыняйсь! Мырно!
Шел он вдоль строя, злобно зыркая на курсантов. Не отец-командир, а Навуходоносор какой-то. Только и было в нем что голос трубный, а души совсем не было. Будто рожден он и не от человека вовсе.
Придирался командир ко всему на свете. Его мелюзговые замечания Мотя выслушивал с брезгливостью.
– Я вижу, что не Джоконда! Открыть баки!
Все рухнуло в одночасье. Крыжаковский был грибник. Уже через час взвод в противогазах выгружал содержимое баков в самосвал.
Расписова с командиром роты вызвали на ковер. Пройдя в Адмиральский коридор, они остановились перед кабинетом начальника училища. БПК смотрел на дверь кабинета как на Стену Плача. Вышел старший мичман, адъютант начальника.
– Борис Петрович, проходите, а вы, курсант, обождите в коридоре.
Ожидая БПК, Шурик рассматривал полотна великих маринистов. Они украшали Адмиральский коридор.
Минут через десять появился командир роты. Постукивая кулаком по ладошке, он растерянно бормотал:
– Вот так, отвечай, Козюля. Понаберут, бля, на флот, а виноват Козюля.
– Товарищ командир, ну что?
– Мне выговор, вам трое суток губы. При чем здесь Козюля?
На картине Айвазовского догорал турецкий флот.
Один день Матвея Идрисовича
Родился Мотя тринадцатого июля, в пятницу, и случилось это в високосном 1956 году.
В том году состоялся ХХ съезд КПСС, на котором развенчали культ личности, провели операцию «Вихрь» по подавлению антисоветских волнений в Будапеште и приняли постановление ЦК КПСС «Об орошении и освоении целинных земель».
Все это, вместе взятое, ничего хорошего мальчику не сулило. Будущее его было предрешено и печально.
Рос Мотя в семье потомственных каторжан. Мать его, Ида Иосифовна Либерман, была дочерью репрессированных троцкистов-бухаринцев, а отец, Идрис Валиевич Челебиджихан, – сыном депортированных из Крыма татар.
Жила семья двойной жизнью. На работе, сидя под портретом генерального секретаря ЦК КПСС, строили светлое коммунистическое будущее. Вечерами же, закрывшись на кухне, шепотом гордились своими предками и эзоповым языком выражали свое недовольство коммунистическим строем и лично товарищем Брежневым.
Несмотря на то что, кроме них и чайного гриба, многозначительно пузырившегося в трехлитровой банке, на кухне никого не было, в безопасности они себя не ощущали.
Вот и Мотя с детства был привычен к двуличию. В детском саду под портретом лукаво улыбающегося Ленина он вместе с другими детишками учил стихи Михалкова, а вечерами на кухне, затаив дыхание, вкушал настоящую правду.
Шли годы, и наступило время получения советского паспорта и призыва в ряды вооруженных сил. Наступило неожиданно и одномоментно. Остро встал вопрос с выбором фамилии и национальности. После долгих дебатов на кухне пришли к выводу, что фамилия Челебиджихан хоть и не сахар, но все же безопаснее, чем Либерман.
С национальностью было сложнее, решили подмазать знакомую паспортистку и записать Мотю русским. Получилось интересно – Матвей Идрисович Челебиджихан, русский. Паспортистка долго смеялась, ей самой настолько понравилось, что денег за услугу она не взяла.
Полдела было сделано, но оставался вопрос со службой. Идти в армию мальчику из непростой интеллигентной семьи никак нельзя. Но и отлынуть от службы было невозможно.
Решение приняли: как и водится у матерых интеллигентов, ни вашим ни нашим. Отправили Мотю поступать в военно-морское училище – вроде как на службе, а вроде и учится.
Тяжела и незавидна жизнь курсанта, а уж первокурсника и подавно. Привыкнуть к этому невозможно, можно только пережить. До второго курса дотягивали далеко не все.
Зимние ночи в Ленинграде долгие и лютые. Ветер с залива нагоняет мороз и снег.
Ровно в семь ноль-ноль прозвучал звонок, долгий и пронзительный.
Дежурный по роте дурным голосом проорал:
– Рота, подъем! Построение на зарядку через пять минут! Форма одежды – брюки, тельник!
Старшина роты вывел недоспавших юнцов на пробежку. Хоть и утро, а на улице темень. Первые прохожие, зябко кутаясь в шубы, с жалостью смотрели на курсантов, которые в одних тельняшках наворачивали круги вокруг училища.
Стук прогаров по наледи, звон сполошного колокола в ушах, мороз иглами в морду да окрик старшины: «Не растягиваться! Подтянись на шкентеле!»
Через тридцать минут, тяжело дышащие, с нерастаявшим снегом на голове, вернулись в ротное помещение.
– Разойдись!
Все наперегонки бросились к своим тумбочкам. Схватив мыльно-рыльные принадлежности и накинув на плечо вафельное полотенце, Мотя одним из первых добежал до умывальника. Народу в роте много, а умывальников мало, а времени на то, чтоб умыться да оправиться, и того меньше.
Мотя провернул вентиль, ледяная вода брызгами полетела на его голый торс. Медный сосок покрылся испариной. Вымыть руки и лицо было еще ничего, терпимо, но вот почистить зубы было мукою адовой. Зубы ломило, эмаль потрескивала. Собрав всю волю воедино, Мотя прополоскал рот и крепко зажмурился, пережидая боль.
Наскоро вытерев лицо, Мотя пристроился к писсуару и расслабился. Над писсуаром густо парило.
В дальнем углу на дучке кто-то натужно кряхтел и ерзал, стараясь побыстрее опростаться. На утреннюю приборку опаздывать никак нельзя.
После развода на приборку Мотя с тремя товарищами взял из кранца с приборочным материалом четыре щетки и две сметки. Объектом приборки у них был факультетский коридор. Длинный, широкий, уложенный паркетом коридор.
Мотя заученным движением закатал правую штанину и просунул ногу в крепление щетки. Паркет нужно было натирать тщательно, вдоль паркетного рисунка, до блеска. Особенно у плинтусов – к этому начальство придиралось с завидным постоянством.
Пыхтел Мотя в меру, без фанатизма, понимал, что работа, она о двух концах: для себя делаешь – качество давай, для начальника – дай показуху.
Закончив натирать, Мотя сметкой прогнал мусор в конец коридора. Паркет горел янтарем – может, сегодня и не заругают. Хотя за что взгреть, всегда найдется.
Роту построили и повели на завтрак. В столовой рассаживались по четверо. У каждого было свое место. Вестовые разносили чай. Собственно, чаем это и не назовешь. Нормы курсантские скудны, а тут еще камбузные работники воровали без зазрения совести.
Мотя рассматривал шлепок полуостывшей колышистой каши. Взял кусок сахара, вымочил его в чае и бросил в кашу. Теперь это можно есть. На один кусок хлеба намазал масло, другой спрятал за пазухой.
Дежурный посмотрел на часы.
– Закончить прием пищи!
Мотя торопливо впихнул в себя остаток хлеба с маслом, зачерпнул ложкой сладкую кашу и запил все это теплой бурдой из кружки.
Роту построили для утреннего осмотра. Мероприятие это командир роты проводил лично.
Командовал он зычно, с протягом:
– Рыняйсь! Мырно!
Шел он вдоль строя, злобно зыркая на курсантов. Не отец-командир, а Навуходоносор какой-то. Только и было в нем что голос трубный, а души совсем не было. Будто рожден он и не от человека вовсе.
Придирался командир ко всему на свете. Его мелюзговые замечания Мотя выслушивал с брезгливостью.