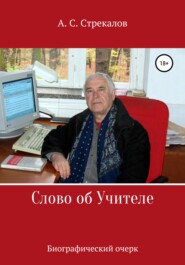По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Б. Пастернак – баловень Судьбы или её жертва?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И так оно всё потом в точности и случилось, как хитрюга-Серёга предполагал, на что для себя рассчитывал. Рассвирепевший мастер, придя в себя, со лба смахнув пот ладонью, обозвал его сукой и м…даком, саботажником и провокатором, и сразу же послал на х…р прилюдно. Заявил грозно, при всех, чтобы сидел он с тех пор в подсобке и не показывался ему на глаза, дубина стоеросовая, хитрожопая! Что Серёга с удовольствием и сделал – до глубокой весны, до самого увольнения то есть в курилке с книжкой в руках просидел, задницей зарабатывая себе полный оклад и необходимый трудовой стаж для института. И получилось это всё у него чисто по-еврейски…
3
И тут мы подходим к главной характеристике Серёги как человека: он был евреем по матери, хотя старательно и скрывал это своё еврейство все годы учёбы и потом. Да и теперь всё ещё скрывает, не признаётся, хитрюга. Только перестройка нам на него глаза открыла, которую он как главный иудейский праздник встретил, приветствовал всем сердцем и всей душой, в которую без труда и напряга вписался в качестве предпринимателя. Я видел его матушку несколько раз после окончания Университета: это была яркая пышнотелая дама, из тех, которые сразу же притягивают внимание мужиков, на которых весной мужиков как магнитом тянет. Эротической энергией она обладала знатной!
И при этом при всём она была не замужем: странно, да?! Родив от супруга сына и дочь в достаточно молодом возрасте, она быстро развелась с ним и жила потом всё время одна – с детьми, отцом и матерью – и была счастлива по разговорам и виду, или только вид делала… К мужикам, тем не менее, бегала раз от разу – на романтические свидания при луне, – но всегда возвращалась назад, под родительский кров и опеку, ни у кого подолгу не задерживалась: не предлагали, скорее всего, не оставляли рядом.
И работала она чисто по-еврейски – заведовала каким-то левым архивом в каком-то столичном НИИ, где под её началом числились четыре блатные и незамужние дурочки, годами бившие баклуши на рабочем месте, да чаи распивавшие целый день от скуки и от праздности, да со старых и ненужных папок смахивавшие регулярно пыль: в этом, собственно, и заключался весь их “труд упорный и героический”… Она же, будучи оборотистой женщиной, дурака валять не хотела и через еврейские связи пролезла работать ещё и в городской суд присяжным заседателем. Там она заседала по полгода, по рассказам сына, находясь как бы в служебной командировке, то есть без отрыва от основной работы архивариуса, – помогала судьям вершить дела. Судьи были от неё в восторге, покладистой, проворной и понятливой дамы, а она – от них. Когда же наступала плановая ротация, судьи писали гербованную бумагу в НИИ и в приказном порядке требовали кадровиков оставить серёгину матушку ещё на один срок, как сверхнадёжную и незаменимую помощницу. Потом ещё и ещё: так она всем там нравилась, так угождала!… Поэтому и проработала она в суде аж 20 лет – до пенсии по сути.
Должность присяжного заседателя, для справки, – вероятно, самая блатная и халявная из всех, самая в смысле обширных связей и левых доходов выгодная. Работы и ответственности никакой, кроме как помогать советами судьям в совещательных комнатах да щёки на заседаниях надувать. И при этом при всём ты – полноправный член суда, тебя все знают и уважают, все как перед попом-батюшкой кланяются, потому что от твоего совета и подсказки очень многое зависит: 10 лет человек получит “строгоча”, или же 5 лет условно – разница существенная! К тому же, именно через присяжных заседателей давали взятки и подношения судьям в советские времена, чтобы смягчить или снять приговор, улучшить условия содержания подследственных и заключённых. Присяжный заседатель, как не юридическое лицо, лицо общественное – а значит лицо неподсудное и случайное в любом судебном процессе, всегда выступал посредником в тёмных делах: напрямую судьи взяток никогда и ни от кого не брали. Отсюда – и такая важность этой пустяшной с виду профессии. Отсюда же – и многочисленные знакомства и связи!!!
Не удивительно, в свете всего вышесказанного, что серёгина матушка, уже и тогда коррумпированная пробивная мадам, раскинувшая по всей Москве среди себе подобных деляг тайную сеть-паутину, матушка без особого труда подключила знакомых и устроила провалившего вступительные экзамены сына в цэковскую типографию сначала осенью 74-го, потом отмазала его, здоровенного бугая, от армии; а в 1975 году протолкнула его ещё и в Университет через чёрную дверь, да на престижный мехмат, где у неё, вероятно, появились обязанные ей чем-то люди.
Так и оказался балбес и нетяг Серёга у нас в МГУ, на механико-математическом ф-те, не зная совсем математики, не любя и не ценя её, не собираясь ей в будущем заниматься. И был он у нас такой единственный на курсе – случайный, чужой человек, повторю, напоминавший Остапа Бендера в академической мантии или же гайдаровского Мишку Квакина на комсомольском съезде… Больше скажу: если бы у его матушки были знакомые на химфаке, допустим, или на биофаке, или во ВГИКе том же, – он бы поступил и туда. Какая в сущности разница, где штаны протирать, если не нужны знания! Поступил – и потом отучился бы там 5 лет с чьей-то тайной помощью. В принципе, ему было всё равно, повторю, где болтаться и диплом получать, и какой диплом. Лишь бы его получить и не ходить в армию. А дальше видно будет…
Понятно и естественно, и закономерно, что начальные два курса он был первым и главным кандидатом на отчисление, пересдавал экзаменационные сессии по многу раз и до последнего срока: зимнюю сессию – до весны, весеннюю – до осени, – когда уже готовились документы в деканате на его “ликвидацию” и по мехмату ходили упорные слухи, что Серёге нашему хана: выгоняют-де его, м…дака, с треском, и загремит он в армию!
Но потом в дело незримо вмешивалась его мать: кому-то звонила или приезжала лично на тайное рандеву, утрясала проблемы, – и он чудесным образом оставался на курсе, продолжал учёбу дальше, самим этим фактом поражая нас всех максимально. Два первые года продержался и протерпел таким образом парень – выстоял. Ну а потом уже никого у нас не отчисляли, или почти никого: для этого надо было очень сильно постараться. Ибо не выгодно было Университету и государству после 2-х курсов мехмата кого-то на улицу выгонять…
4
Уже в первый колхозный день, как только Серёга появился в нашей комнате, он начал активно уговаривать всех нас отметить знакомство и начало работ, попить винца на природе – не валяться бревном на койке, то есть, а с пользою назначенный срок проводить. И первый, кого он уговорил, был Миша Прохоров – единственный парень из нашей комнаты, кого он близко знал, с кем два первых курса проучился в одной группе… Ну а дальше всё пошло как по накатанной – самоходом. Миша уговорил отметить приезд меня: с ним мы были знакомы и дружны ещё с колмогоровского интерната, с осени 1973 года. Я уговорил Колю Беляева, с которым два первых курса делил одну парту в Университете, кого как брата полюбил сразу и навсегда за его душевную чистоту, прямоту, отзывчивость и щедрость, за незлобивость и порядочность, за его РУССКОСТЬ, наконец. Больше скажу: Беляев Коля, Николай Сергеевич теперь, – самое светлое и яркое пятно в моей достаточно уже длинной жизни, связанное со студенчеством и Университетом. Он – и Дима Ботвич, Дмитрий Дмитриевич ныне, – второй мой товарищ по МГУ, уроженец Курска, с кем я 4 года подряд ездил в стройотряд в Смоленскую область, пахал там как проклятый от зори до зори; с кем потом 3 года пьянствовал в аспирантуре; у кого впоследствии был свидетелем на свадьбе, а он у меня. Других столь близких и дорогих людей у меня на мехмате среди студентов не было!…
Итак, я уговорил Колю сначала, а потом и Диму Ботвича вечером пойти погулять, которых было легко уговорить: ребята оба были покладистые и добродушные, податливые как пластилин. Остальные парни пьянствовать наотрез отказались – весь вечер сидели и резались в преферанс, расписывали “пульки”. А мы четверо сдали Серёге деньги послушно: он как-то сразу стал у нас казначеем и снабженцем одновременно, освободив нас от этого канительного дела, – и вечером отправились впятером в лес, что располагался почти рядом с клубом. Там нашли поляну удобную, расположились на ней, разожгли костёр – и принялись бражничать, лясы точить, наслаждаться приятным осенним вечером и природой…
И первое, что мне тогда бросилось в глаза и запомнилось крепко-накрепко, – было поведение Серёги. Он вёл себя с нами в колхозе по-менторски, свысока, как настоящий хозяин положения, то есть, наш старший наставник или учитель, а не как какое-то чмо, дурачок и двоечник, каким он был и держал себя в Универе. Отличник-Миша (ныне профессор) попробовал было поиздеваться над ним, как это он в группе делал, – но ощетинившийся Серёга быстро одёрнул его, поставил на место, да ещё и публично уел. «Ты, Мишаня, – заявил с вызовом, – хвост на меня не поднимай, не надо! свой гонор в задницу себе запихни и больше никому не показывай. Это ты на факультете отличник и передовик, а в жизни ты ещё никто, ноль без палочки, гость столицы. И кроме математики своей ничего не знаешь и не умеешь, не имеешь даже собственного угла – только койку в общаге. А я-де, удалец-молодец, – коренной москвич из приличной семьи, и жизнь уже повидал во всех её видах и проявлениях, какие тебе, лимите, и не снились, наверное. И водки выпил немерено, и в драках неоднократно участвовал, двор наш в страхе держал, и в КПЗ сидел, и “конец” свой об баб уже стёр до основания. И пока ты задачки тупо сидел и решал дома и на мехмате – я уже гору исторических и художественных книг прочёл, про которые даже у нас в Москве с десяток человек только и знает; а попутно пару сотен выставок посетил и экспозиций, фильмов на закрытых показах, про которые ты, деревенщина необразованная, тоже небось ни сном ни духом не ведаешь».
–…Ну и какие же ты прочёл книжки, назови, про которые только десять человек якобы знает? – зло огрызнулся Миша, обиженный таким отпором, никак не ожидавший его.
– Пастернака, Мандельштама, Бабеля, например, тех же Ахматову, Цветаеву, Солженицына и Антонова-Овсеенко, Булгакова и Платонова! – с гордостью выпалил Серёга на одном дыхании, как будто только и ждал подобного вопроса от нас, чтобы образованность свою показать и подавить нас всех одним махом этой своей образованностью. – Слыхал про таких, Мишаня, читал?!
“Мишаня” притих, пришибленный, не зная, что и ответить. Притихли и мы все, поражённые услышанным. Дурачок и неуч Серёга оказался не так прост, каким он два года нам, сокурсникам, представлялся, и не так глуп. Никто из нас, во всяком случае, фамилии перечисленных им авторов не слышал ни разу, книги их не видел в глаза. Было отчего притихнуть и призадуматься…
Целый месяц потом всё у нас в трудовом лагере повторялось как под копирку: днём мы работали в поле, а вечером по требованию Серёги, который нас четверых прямо-таки поработил и подчинил своей стальной воле, шли в лес кутить и трепаться. Трепался, впрочем, один Серёга в основном, который оказался завидным говоруном, а мы сидели и слушали его, разинув рот, поражаясь ему и его познаниям жизненным… Он и впрямь многое успел чего испробовать и повидать к своим 20-ти годам, что нам, чистоплюям-отличникам, и не снилось даже… Я, например, по молодости как огня боялся милицию и милиционеров, а он на них свысока смотрел, отзывался о них презрительно – как о “человеческом мусоре”. Я ни разу и ни с кем не дрался в жизни: не умел этого и не любил. А он про драки рассказывал с жаром и удовольствием, как про занятие любимым делом, уверял, что многократно участвовал в них, и побеждал, что неоднократно ломал себе руки и рёбра.
Далее, я боготворил женщин со школы ещё, воспитан был на Тургеневе и на Лермонтове, до девушек страшился дотронуться аж до 25 лет, не говоря уж про что посерьёзнее и покруче: про аборты и триппаки, или про выходы в окна от чужих жён, когда их мужья внезапно вдруг заявлялись. Моя супруга Марина и стала моей первой женщиной – честно про то говорю: любовного опыта у меня до неё не было. А уж хорошо это или плохо? – не знаю, не мне судить… Серёга же на “баб” – его всегдашнее слово! – смотрел с брезгливым вызовом неизменно, оценивающе и похотливо, на всех; любил и часто произносил поговорки типа: “курица – не птица, баба – не человек”, “баба создана для любви как птица для полёта”, “на Западе баб используют по назначению, а у нас в СССР – по специальности”. И добавлял с ухмылкою: оттого-то у нас, мол, в стране и такой бардак, а на Западе – достаток и процветание! – что мы бабам волю дали!
Я в Университете не пил и не курил, все пять студенческих лет активно занимался спортом: лёгкой атлетикой, в частности, в Центральной секции МГУ. Пить я начал в 22 года, выйдя во взрослую жизнь и растеряв товарищей. От одиночества и тоски больше – не ради удовольствия. А как только женился – пить сразу же бросил, за ум взялся. И до сих пор не переношу запаха табака и спиртного. Такой уж попался у меня чистоплотный и аскетический организм: я в этом не виноват и заслуги моей в этом нету… Я и в колхозе на картошке не пил – просто сидел рядом и слушал пьяные речи сокурсников, убивая время и поддерживая костёр, регулярно бегая за дровами… Серёга же, по его словам, уже лет с 14-ти, будучи безотцовщиной, пил и курил вовсю, и “трахал баб во все дырки” – любимое его выражение! – что были старше его по возрасту и много опытнее; а потом лечился от разных срамных болезней, на аборты любовниц возил, на гинекологические осмотры. Серёга, словом, был для меня человеком из другого, параллельного мира, который я по-молодости совсем не знал и который меня заинтриговал и заинтересовал предельно.
«Как это так возможно? – сидел и удивлялся я, с улыбкой поглядывая на нашего колхозного заводилу, восхищённо слушая анекдоты и байки красочные про его шальную и разудалую жизнь, открывая его для себя всё больше и больше, – как это так возможно: почти ежедневно пьянствовать и гулять, с девушками миловаться, крутить шуры-муры и всё остальное, – и при этом при всём умудряться ещё и много знать и читать, в Университет поступить московский, даже и для большинства небожителей-медалистов закрытый?! Чудно, невероятно это!!! Я, вон, до своих 19 лет дожил – а всё ещё дурак дураком: ничего не знаю и не имею, нигде не был, ничего не читал. А тут!… Да, студент Серёга плохой, самый последний на курсе! Но что из того?! Зато всего остального вон сколько знает, сколько всего повидал на свете, чего многие из нас, отличников, и до смерти не узнают, наверное, не испытают и не поймут!!!…»
5
Так вот и появился у меня новый товарищ в Москве, Серёга П., Серый, с которым я по собственной воле сошёлся довольно близко на 3 курсе, с которым три последних года учился на одном потоке, вместе слушал лекции – понимай. Хотя кафедры у нас были разные, разные группы и, главное, разные интересы и взгляды на жизнь, как и место в ней человека.
Серёга не отталкивал меня, видя мою к нему симпатию и приязнь, наоборот – приближал, хотя толку ему от меня, лимиты, не было никакого. Но я был единственным человеком на курсе, кто стал смотреть на него снизу вверх – в прямом и переносном смысле. Ибо мало того, что он был москвичом, и москвичом “богемным”, как мне почудилось из его рассказов, но он был ещё и на голову выше меня и весил килограммов на 20 больше.
Он это сразу подметил – моё к нему уважение и пиетет, – и ему это было лестно, понятное дело, это тешило его самолюбие: он был крайне самолюбивым и амбициозным парнем. И можно только представить, что ему приходилось испытывать и терпеть, когда все остальные сокурсники, в том числе и Дима Ботвич с Мишей Прохоровым, пьянствовавшие с ним на картошке, после колхоза по-прежнему сторонились его, продолжали смотреть на него как на дурачка или пустое место, меня от дружбы с ним отговаривали постоянно. Оба они оказались прозорливее и мудрее меня и не клюнули на его пропагандистско-рекламную удочку, в его еврейские сети не угодили. А я вот попал – и виною тому был я сам, безусловно, моя внутренняя мировоззренческая перестройка.
Третий курс, признаюсь, стал для меня переломным во многих смыслах, связанных со сменой приоритетов и переоценкой ценностей. Два первые года учёбы в МГУ были мной полностью и безоговорочно подчинены математике: ничем другим фактически я и не занимался. До обеда, до 15-00, сидел на лекциях и семинарах в Главном здании на Ленинских горах, после обеда – в читальном зале общежития. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Учёба на начальных общеобразовательных курсах была очень тяжёлой: в нас закладывался могучий научный фундамент на будущее, без которого дальнейшее мехматовское образование теряло смысл. Преподаватели нас не щадили, не давали поблажек и послаблений, даже и дух не позволяли перевести. Неуспевающих отчисляли, не задумываясь и не церемонясь: несколько человек отчислил за два первых года или посоветовали перейти на другие ф-ты, попроще и поскромней. Проверки знаний шли сплошным непрерывным потоком: некогда было голову поднять и оглядеться. Ежедневно проверяли даже и посещение лекций и семинаров – всех! За прогулы шли суровые наказания – нас лишали стипендий прежде всего, а они тогда были немаленькими. Я был придавлен учёбой как бетонной плитой, я света белого не видел!… И это – не метафора и не гипербола, не красивый речевой оборот: так всё оно у нас и было. Учёба, учёба, учёба с утра и до глубокого вечера! Одна сплошная сверх-напряжённая и сверх-утомительная учёба два первых года, между которыми был ещё стройотряд, куда я 4 лета подряд на работу ездил.
А ещё первые два курса я параллельно преподавал в ВЗМШ (Всесоюзная заочная математическая школа при мехмате МГУ), в которой сам совсем недавно ещё с энтузиазмом и задором учился и много пользы для себя поимел. Каждый месяц, помнится, будучи школьником, получал из Москвы теоретический материал и задачи, сам всё это осваивал и решал, отсылал в МГУ в огромном конверте, который сам же кроил и клеил, – и потом через пару-тройку недель получал тетрадку обратно с оценками и советами, и новой контрольной работой. А поступив в 1975 году на мехмат, нежданно-негаданно сам стал юным преподавателем.
ВЗМШ – это была обязательная общественная нагрузка для всех студентов нашего факультета, кто планировал, получив диплом, в мехматовскую аспирантуру сразу же поступать. А я планировал (на старших курсах, правда, передумал, учился в аспирантуре уже в своём НИИ, без отрыва от производства), потому и впрягся по-молодости и по-дурости в этот преподавательский воз – тоже, надо сказать, нелёгкий. На первом курсе я вёл восьмиклассников; приходил в штаб-квартиру ВЗМШ на 12-м этаже мехмата и получал там 30 тетрадей ежемесячно присланных контрольных работ, которые должен был за неделю проверить и отдать назад с оценками и комментариями. А перед проверкой должен был все задачи решить (10-12 задач), потому как если школьники решали задачи неправильно или совсем не решали какие-то, я должен был не справившемуся с задачей ученику написать короткую подсказку. Это приходилось делать регулярно – советовать, намекать и подсказывать. Отличников и в ВЗМШ было мало, с которыми не требовалось возни, их всегда и везде мало: это штучный товар. И вся эта возня со школьниками мною делалась между основными занятиями, замечу, когда я от университетских дел отдыхал, от интегралов и производных отвлекался, от многомерных матриц, тензоров и числовых рядов… А на втором курсе мне и вовсе доверили вести десятиклассников, всё тех же 30 человек, полноценный школьный класс по сути, когда ответственность увеличилась многократно, как и сложность самих задач: ведь каждого подшефного школьника я фактически, пусть и заочного, уже подготавливал к поступлению на мехмат. Я это хорошо понимал, возложенную на меня руководством громадную ответственность; поэтому и старался и выкладывался особенно сильно весь 2-й курс – в ущерб здоровью…
А потом я страшно устал: я это ещё в стройотряде почувствовал летом 1977 года, что надо мне менять жизнь и ослаблять вожжи. А то так недолго и до беды, до болезни тяжёлой, психической, когда понадобится уходить в академический отпуск на год и восстанавливать дома подорванное здоровье и силы, драгоценное время терять. Тем паче, что два первых общеобразовательных курса мной были успешно пройдены, добротный фундамент заложен, и нас распределили по кафедрам в октябре, где каждого учили уже какому-то одному направлению, “заостряли” студента на одну конкретную тему, а не на всё. Необъятное объять невозможно – это ясно и дураку. Тем более это было ясно, и очень давно, мехматовским славным преподавателям… Отсюда – и кафедры многочисленные, и направления. И каждому студенту-старшекурснику – уже свой личный наставник-педагог из профессорско-преподавательского состава, который и отвечал за него, за его знания и успеваемость.
Из ВЗМШ я ушёл с лёгким сердцем по окончании 2-го курса, переложил работу на молодых. Свободного времени прибавилось из-за этого. Да и дисциплина стала заметно падать: преподаватели меньше проверяли нас, меньше контролировали посещения лекций. На старших курсах студенты получили волю и возможность самим решать, как и по каким правилам им учиться. Угроза отчисления и лишения стипендии над нами уже не висела…
Это не могло не сказаться на настроении и поведении студентов: мехматовцы, и я в их числе, начиная с 3-го курса вздохнули, наконец, полной грудью, выпрямились во весь рост, расправили плечи. Тяжеленная “железобетонная мехматовская плита” спала с нас со всех, мешавшая нам жить и дышать свободно, радоваться каждому дню и солнцу. Мы все, или большинство из нас вдруг как-то сразу поняли, что математика – это хорошо, это прекрасно даже; но она – не единственный огонёк в окне. Есть и другие цвета на Свете Белом – и не менее яркие и привлекательные.
Такую перемену чудесную и живительную в поведении и настроении студентов-третьекурсников я мог воочию наблюдать по своим друзьям, с кем я два года уже жил в одной комнате в общежитии, мысли и чувства которых прекрасно знал. Так вот, один из троих моих дружков на 3-м курсе увлёкся байдаркой и турпоходами, стал пропадать в тур-секции МГУ ежедневно, и ежемесячно ходить в походы на байдарках по рекам России. И занимался он этим делом до самого выпуска: туризм в его жизни на равных соперничал с математикой.
Второй дружок вдруг увлёкся историей мирового кино: стал регулярно ездить в кинотеатр «Иллюзион» с какого-то перепою и просматривать там старые фильмы раз за разом, кайф от них получать, ума-разума набираться, богемного шику и лоска. Потом, накайфовавшись сам и позитива и знаний набравшись по самое некуда, начал заниматься пропагандой искусства кино среди дружков-студентов – расклеивать объявления в общаге о каждом очередном западном фильме, покупать абонементы месячные и полугодовые и распространять на мехмате, нас в «Иллюзион» зазывать. И тоже маялся этой киношной дурью до последнего в Университете дня. Да и потом не бросил.
А третий мой сожитель-балбес и вовсе заболел картами, постоянной игрою в них: стал профессиональным картёжником и зарабатывал неплохие деньги. Всю ночь он играл где-то – в преферанс и бридж в основном, реже в покер, – а днём отсыпался в комнате, пока мы были на занятиях. Отоспится, в столовую сходит, бывало, сил наберётся, помоется в душе, тело своё освежит – и опять на игру “летит” со всех ног, как только очумевшие от любви женихи к похотливым невестам бегают. Год поиграл таким образом, порезвился, парень, а к весне его отчислили с мехмата – за прогулы и неуспеваемость! И стал он единственным 3-курсником, как представляется, потерявшим берега и голову, кому указали на дверь. Но главное, он – конченный игроман, ни сколечко не жалел об этом, волосы на голове не рвал: по слухам высококлассным “каталою” в итоге стал, нашёл себя в жизни, парень.
А Володя Шмуратко, мой однокурсник, добрейшей души человек, с которым я 4 года подряд в один стройотряд ездил, увлёкся на 3-м курсе живописью, картины начал писать, устраивать регулярные выставки у нас в общаге. Теперь он известным столичным художником стал: картины его пейзажные вовсю гуляют по Интернету и пользуются успехом у публики.
И это только четыре наиболее характерных примера, которые до сих пор помнятся, крепко сидят в голове. Про остальных парней и девчат если начать рассказывать – бумаги не хватит. Да и не интересно это – чужие жизни без конца вспоминать, в судьбах других копаться, свою судьбу отодвинув в сторону. Скажу лишь, что только единицы моих ровесников, по моим наблюдениям, сохранили детскую верность и преданность «царице наук», и не вышли за рамки математики все пять лет, не изменили ей даже и мысленно, как не выходят монахи-схимники за стены монастыря или обитатели зоопарков за ограду своих вольеров. Для них она по-прежнему оставалась единственная и неповторимая, как и родная мать, заменявшая им буквально всё и всех в их молодой жизни. На неё они – как те же монахи на святые и нетленные мощи – молились…
6
А про себя самого скажу, что я ещё в стройотряде твёрдо решил, очередной колхозный коровник достраивая, что пора мне с моим мехматовским фанатизмом кончать! И побыстрее!
«Хватит, – помнится, решил для себя в августе-месяце, – хватит, Сань, отдал дань порядку и дисциплине, дифференциальному и интегральному исчислению, алгебре и геометрии, обыкновенным дифференциальным уравнения – пора и о душе подумать, а не только о крепости разума. Третий год, – удивлялся с грустью, разглядывая прищуренным взглядом голубое смоленское небо над головой, – живу в Москве – а Москвы-то толком ещё и не видел, не знаю, не говоря про что другое, возвышенное и прекрасное. Только Главное здание МГУ и 6-й корпус ФДС на Ломоносовском проспекте – единственные мои друзья, студенческая общага родная, где я до полуночи из читального зала не вылезаю, а потом сплю как сурок на казённой кровати, набираюсь силы и энергии для следующего учебного дня и следующего за партой и столом кропотливого сидения. Не смотрю телевизор совсем, не читаю газет, журналов и художественных книг, не хожу в кино и театры, в музеи и на дискотеки, за политикой не слежу, за культурной жизнью. Дикарь дикарём, короче! Маугли настоящий, “кухаркин сын”, или биоробот, заточенный на одно дело! Единственное развлечение за два первых курса – Центральная секция МГУ и Манеж, где я занимаюсь лёгкой атлетикой под руководством великого тренера и человека, Юрия Ивановича Башлыкова. Но этого явно мало для студента Московского Университета, такая убогая культурная палитра, катастрофически мало…»
«Нет, Санёк, нет и ещё раз нет! – намечал я для себя новую программу жизни уже на картошке, где было достаточно времени и места подумать о печальной судьбе своей, где мы не перетруждались особенно-то, отдыхали больше. – Надо математику потихоньку в сторону отодвигать, не зацикливаться на ней одной, а начинать жить полной жизнью, как другие молодые люди живут, некоторые мои столичные однокурсники. По Москве надо бы походить-погулять, познакомиться, наконец, с ней поближе; на мир и людей посмотреть, выставки посетить и музеи, где я тоже ни разу не был. Словом, надо срочно окультурить себя и цивилизовать. А то ведь как чистым лапотником приехал в столицу, так чистым лапотником и останусь, выйдя из МГУ. И где я потом культуры наберусь, галанту и политесу? – неизвестно! И так и останусь до конца дней своих валенком деревенским, навозным жуком. Вот будет тогда стыдобища!…»
С такими приблизительно мыслями и настроениями я в колхозе Серёгу и встретил, которого мне будто бы сам Господь Бог послал – так я тогда для себя решил и подумал, – который мне, чудаку, незримой волшебной дверью вдруг показался, или сталкером-проводником в изящный мир культуры и искусств, духовного творчества. В мир, который я, будучи глубоким провинциалом-богородчанином, совсем не знал, но куда, однако, всей душой устремился… Поэтому-то я и начал крутился рядом с Серёгой по возвращении в Москву, видел его почти каждый на лекциях, подолгу беседовал с ним в перерывах, частенько даже провожал его до 104 или 103 автобусов (он жил в Кунцево).
Серёга, хитрюга, видел мою к нему вспыхнувшую на картошке страсть, понял её истоки – и умело распалял меня во время приватных бесед, поддавал пропагандистского жару. Уверял меня на голубом глазу, что он-де регулярно читает редкие книги, которых не знает и не читает больше никто. Потому что они запрещены в стране, а ему их привозят и дают почитать какие-то якобы знакомые дипломаты. Плёл, не морщась и не краснея, что у него вообще масса знакомых в Москве на самых разных уровнях и направлениях. И всё это – благодаря его умной и знающей матушке, богемной и знатной даме, которую-де многие высокопоставленные дяди и тёти знают и любят, дружат с ней, к ней тянутся. А он, соответственно, через неё знается и дружит с ними… Хвастался, что помнит все картины музеев Москвы наизусть, по залам даже, что не пропускает ни одной выставки и вернисажа; что русскую поэзию знает чуть ли ни всю от корки и до корки, и золотой её век, и серебряный, но выше всех русских поэтов, тем не менее, ставит Бориса Пастернака. Пастернак для него был настоящий Бог, для простых смертных якобы не достижимый и не доступный!… А ещё он хвастался, и тоже на голубом глазу, что перечитал в своё время (когда?!!!) всего Достоевского, и понял Фёдора Михайловича так, как его ещё никто не постиг и не понял. Что он, Серёга, самый главный специалист в Москве по Достоевскому – главнее и выше нету…
Я слушал все эти бредни сказочные и хвастливые, разинув рот, безоговорочно верил им, и всё больше и больше уважал и ценил Серёгу. Подспудно надеялся от него все эти знания получить, до которых я был всегда страстный и большой охотник. Я и теперь, став стариком, ЗНАНИЯ боготворю, читаю запоем книги и частенько по-детски дивлюсь им, хотя уже умирать скоро и учиться вроде бы незачем. Да и совестно, как ни крути: в моём-то возрасте все уже знают всё и давным-давно уже сами всех учат… Но нет, читаю, удивляюсь по-детски и до сих пор учусь; живу так, одним словом, будто старухи-Смерти не существует в природе, и у меня впереди ВЕЧНОСТЬ. Поэтому-то мне всё до сих пор до ужаса ещё интересно. Поэтому-то и список книг, который я для себя когда-то давным-давно составил для обязательного прочтения, не уменьшается с годами, наоборот – всё только увеличивается и увеличивается в размерах, пополняясь новыми авторами и именами…
Пустомеля-Серёга, одним словом, очаровал меня максимально своими байками и своим безудержным хвастовством. А я по молодости был человеком крайне доверчивым и наивным: всем на слово верил. Особенно – москвичам, которым я, бездомный и без-приютный туляк, сильно всегда завидовал, у которых всё было схвачено в Москве, имелись жильё и дачи, целая куча родственников и знакомых, обширные связи, друзья. А у меня, увы, долго не было из этого необходимого социального набора ничего – только временная койка в общаге и такая же временная прописка…
Хотя, признаюсь, не всё мне в Серёге и тогда уже нравилось, а многие вещи и вовсе коробили, заставляли стыдливо краснеть, или наоборот – бледнеть и морщиться, покрываться мурашками от досады. Он ведь не только про музеи и литературу со мной говорил, но и про жизнь тоже. А она у него была широкой и бурной на удивление, и в некоторых местах достаточно неприглядной.
Он, например, матом постоянно садил – и на улице, и на переменах факультетских, и даже на лекциях умудрялся непечатное словцо вставить, когда лектор ему не нравился. Причём, часто делал это демонстративно громко, с неким ухарским вызовом даже, что на него оглядывались все – и краснели… Далее, он мне без конца рассказывал про свои коллективные пьянки с дружками и бабами, которые у него не прекращались, следовали непрерывным потоком. «Откуда у человека деньги на это? – думал я, – если он с первого курса учится у нас без стипендии: на шее у матери и у бабки с дедом сидит, свесив ножки. И в стройотряд он не ездит, бездельник, категорически. Хотя знает от нас, прекрасно осведомлён, что нам там платят хорошие деньги… А он завидует нам на словах, слыша про наши трудовые заработки, зло ухмыляется всякий раз, трясёт головой от досады, но работать с нами ехать не хочет: всё лето пьянствует и развратничает с приятелями. На что?…»
Потом-то уж я узнал, на что; узнал, что был Серёга профессиональным альфонсом и халявщиком, каких ещё походить-поискать надобно, каких не часто встретишь даже и в перенаселённой Москве. Сдружался он быстро и часто с людьми – это правда, – но с одной-единственной целью только: чтобы “друзей” “доить”, и “доить” безбожно. И все зазнобы его и любовницы моментально попадали в положение “доноров” и “кормилиц”: щедро оплачивали дружбу, любовь и ласки, которые он им предоставлял. А иных он рядом и не держал, не тратил время! Умных и прижимистых он сразу же отдалял от себя, относил в категорию “жуков” и “гнид хитрожопых”, и везде их чернил и хаял нещадно на чём свет стоит… Не удивительно, что он помнил наизусть все дни рождения и юбилеи всех своих многочисленных любовниц и “друзей”, и обязательно звонил и намекал за несколько дней до даты, чтобы не увиливали, не зажимали люди пьянки-гулянки, а приглашали и “хмелили” его – лучшего их “друга”… Сам же он редко когда свои памятные даты отмечал: начинал заранее ныть и жаловаться, хитрован, ссылаться на отсутствие места и денег… Но чужие пьянки не пропускал никогда, юбилеи, свадьбы и похороны, новоселья те же, между которыми он не делал различий. Причём, мог оказаться на соответствующем мероприятии даже и у незнакомых людей, к кому-нибудь втихаря прицепившись… И если уж он туда каким-то хитрым способом попадал – то выгнать его из-за стола было уже невозможно. Первым садился за стол – последним вставал, будто бы и не замечая ждущих: стыда и совести у человека не было совершенно…
А ещё мне категорически не нравились, омерзительны были до глубины души его удалые рассказы про сексуальные оргии, которые он с парнями в общаге устраивал раз от разу, доверчивых деревенских дурочек там развращал. У него, как выяснилось, в одном из подъездов дома, где он жил, располагалось женское общежитие, где обитали молодые девушки-лимитчицы, приехавшие на заработки в Москву. Вот Серёга с дружками туда и повадился шастать с некоторых пор – устраивать там пьяные бардаки за девичий же счёт, и порно-сеансы. Напоят там девушек до без-чувственного состояния, у них же взяв денег якобы в долг, и без отдачи, естественно, – какой там! Такие ухари и альфонсы за любовь деньги берут, а не платят сами. Ну а потом начинают над ними же и куражиться, без-помощными и беззащитными, свою удаль показывать друг перед другом, сексуальную изощрённость и мощь, фантазии пьяные. Сначала поодиночке с ними упражняются на соседних койках самым диким и варварским способом, а потом трое на одну лезут, а то и все четверо или пятеро: рвут у девушек всё внутри, больными и порчеными делают на всю жизнь, и регулярно беременными… У меня от рассказов тех, помнится, мороз по спине бежал, сердце сжималось от жалости и от боли, от страха за несчастных провинциалок, что по молодости и по неопытности попадали в лапы таким вот нелюдям-стервецам! – а похабник-Серёга, довольный, лыбится стоит, геройствует передо мной, зелёным и не целованным. Ему, шалопутному подлецу, вся эта мерзость и этот публичный разврат сильно нравились. И занимался он этими оргиями довольно долго по разговорам: нечистоплотным был в морально-нравственном плане, грязным и злым…
И его забавы юношеские, любимые, были мне тоже сильно не по душе, про которые я от него узнавал постепенно, с течением времени. Это когда они сбивались в стаи бандитские и мотались по паркам и скверам Москвы, сознательно надирались там на молодые пары при помощи малолеток и потом унижали парня в присутствии девушки, “опускали” его, старались девушке показать, что её избранник – трус, дерьмом и ничтожество, её любви и внимания недостойный… Вообще, надо сказать, что Серёга терпеть не мог счастливых, успешных, довольных жизнью людей по моим наблюдениям, на дух не переносил крепкие и здоровые семьи: они вызывали в его чёрной душе одну сплошную ненависть и злобу. И он втайне мечтал их сломать и разрушить, по миру пустить; всё делал для того, хотя и скрытно.
Другим его развлечением, которое он тоже любил и с удовольствием занимался, была “охота” на рыбаков его пруда. Он и про это мне часто рассказывал, не таясь, про прежние свои шалости – и с превеликим удовольствием это делал, гадёныш, с гордостью нескрываемой… Всё там у них происходило так, по его свидетельствам. Рядом с метро «Пионерская», если кто знает, есть небольшой пруд, где местные мужики до сих пор ловят от скуки рыбу для кошек, расположившись на корточках или на складных стульях. А Серёга лет этак с 16-ти частенько отирался где-то там неподалёку у зазнобы своей, впоследствии ставшей его супругой.