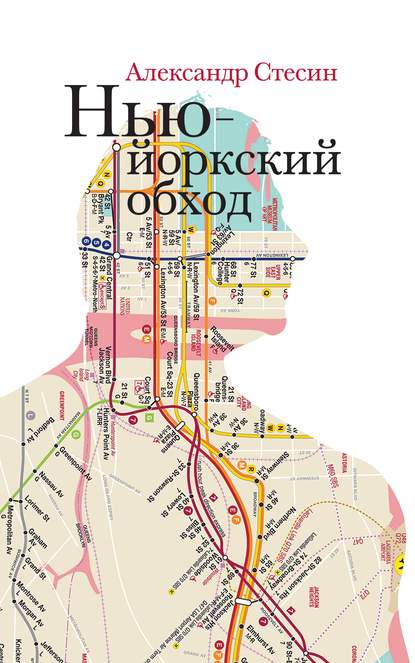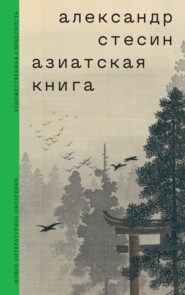По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нью-йоркский обход
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Назир, ты почему спать не ложишься? Отдохнул бы, пока есть возможность.
– Что вы, доктор Вагран, – отвечал Назир через стенку, – какое там спать. Мне еще нужно поставить пациентке капельницу, потом отнести анализы в лабораторию. Думаю, до обхода не лягу…
«Ничего, я тебе это припомню», – думал я, копошась в медсестерской в поисках иглы и катетера. Но, как вскоре выяснилось, замышлять злую месть было совершенно необязательно: Назира и так пинали ногами все кому не лень, а он только и делал, что подставлялся. «Ну-ка, быстро расскажи нам, какие основные сосуды я собираюсь лигировать во время этой операции», – экзаменовал он студента-медика, и всем, кто присутствовал в операционке, от студента до главхирурга, сразу же становилось ясно, что Назир сам не уверен, что он там должен или не должен лигировать. «Думаю, не стоит мешкать с антибиотиками, предлагаю начать курс сегодня же», – говорил он, обсуждая послеоперационное лечение пациента, и все понимали, что он попросту забыл назначить предоперационную профилактику… Впрочем, пинали его и без повода, просто так – из уважения к традиции.
Чем дальше, тем больше Назир старался избегать встреч с коллегами за пределами операционки, поэтому и ночевал, как правило, не в ординаторской комнате, а где-то еще. После той первой ночи я видел его в этой комнате только однажды, когда, заскочив, чтобы взять припасенную с вечера еду, застал его за коленопреклоненной молитвой на подстеленном полотенце. Поначалу я решил, что он занимается йогой, и уже открыл рот, чтобы возмутиться (полотенце-то было мое), но, услышав самозабвенную скороговорку глядящего в сторону Мекки, запнулся. Случайное свидетельство другой, не взятой в расчет стороны его жизни дало волю воображению. Мне представился седовласый Назир-отец, почетный прихожанин мечети, до слез гордящийся заокеанскими успехами сына.
Стараясь не мешать намазу, я тихо взял свой мешок с бутербродом, проскользнул к двери, и в этот момент Назир, как будто прочитав мои мысли, вскочил как ужаленный.
– Ты что делаешь? Ты почему… не на операции?
– Операция закончилась, Назир. Очень странно, кстати, что тебя там не было. Имею я право позавтракать?
– Ты как разговариваешь со старшим по званию? Я все Ваграну расскажу, ты слышишь?
Капать он капал, но куда больше капали на него. Вагран, вполне поощрявший все эти доносы, по-своему заступался за министерского сынка. «Молодой еще, вырастет – научится», – добродушничал Вагран, чем вызывал всеобщий смех: как-никак Назиру было уже сильно за сорок.
Завсегдатаи
Работая в Линкольне, ты практически не видишь выздоравливающих; видишь либо умирающих, либо хронически больных. Последних здесь называют «frequent flyers»[4 - «Часто летающие пассажиры».]. Всякий раз я пытаюсь, но не могу представить себе их существование за пределами госпиталя. Как вообще живут люди изо дня в день? Насколько непроницаема для меня, прохожего, их жизнь, настолько знакома, привычна ее оболочка: и одноэтажные лачуги, в которых ютится испаноязычная служба быта, и грязнокирпичные проджекты с изнаночным лабиринтом пожарных лестниц, и местный стрит-арт, восходящий не то к мексиканским муралистам, не то к изощренным граффити Баския, и религиозные воззвания на каждом углу, и вывески стрип-клубов с рекламой обедов за полцены («самые красивые девочки, самые дешевые буррито»), и реклама уроков английского или уроков вождения, и полусгнившие скелеты автомобилей на штраф-стоянке, и велосипеды, украшенные пуэрториканскими флажками и оснащенные допотопными магнитофонами, чтобы можно было кататься с музыкой, и эта солнечная латинская музыка из каждого окна, круглосуточный саундтрек для столь неприглядных видов.
В зимние дни «frequent flyers» отогреваются в битком набитом приемнике. Некоторые из них находятся здесь «по делу»: ампутации и дренирование абсцессов, хлеб линкольнской хирургии. К некоторым приставлена охрана; этих перевели сюда на время из тюрьмы Райкерс-Айленд. Дело обычное: в больницу попадают не только жертвы перестрелок, но и сами стрелки2. Присутствие полиции сильно помогает – не столько в смысле личной безопасности, сколько в качестве катализатора для развития добрых отношений между врачом и пациентом. Из двух зол узник выбирает меньшее; надзиратель в белом халате предпочтительней того, что в синей форме. Да и сама больница – не худшее из мест заключения, даже если заключенному и приходится проводить дни и ночи, не вставая с постели (наручники пристегнуты к спинке кровати). Зато кормят здесь, видимо, поприличнее, чем там, и телевизор можно смотреть сколько влезет.
Попадаются среди постояльцев и такие, чей основной недуг – хроническая бездомность. Взять хотя бы Карабассоса и Вульски. Эту неразлучную парочку привечает сердобольный психиатр, доктор Асеведо. Вот они сидят в ожидании своего благодетеля, два коротышки с залысинами и бакенбардами, как две капли похожие друг на друга (тот, что чуть покрупнее, – Вульски).
– Ну, рассказывай, Карабассос, на что жалуешься.
– Депрессия, доктор.
– Понятно. Что еще?
– Мания, доктор. Паранойя. Иду по улице, смотрю: все против меня.
– Молодец. Дальше?
– Агрессия. Страшные приступы агрессии. В такие минуты я опасен для окружающих.
– Ладно. Переночуешь у нас?
– Ой, доктор, – вздыхает Карабассос, – боюсь, придется.
– Черт с тобой, – соглашается Асеведо, – разместим тебя как-нибудь на шестом этаже.
– Спасибо вам, доктор, спасибо… Только вот как со сном-то быть? Может, перкоцета немножко, а?
– Ну, перкоцет я тебе не дам, а снотворное, так уж и быть, получишь.
– Доктор, вы просто ангел. Может, еще викодина чуть-чуть на всякий случай?
– Карабассос, не перегибай палку. Полтаблетки диазепама, и хватит с тебя… Иди сюда, Вульски, рассказывай.
(Карабассос уходит; на его месте тут же появляется Вульски.)
– Я нахожусь на грани самоубийства, – начинает он тяжелым басом.
– Понятно… И давно находишься?
– Вы надо мной потешаетесь. Потешайтесь. Но если вы откажете мне в приюте и я покончу с собой, эта смерть будет на вашей совести. Вас отдадут под суд!
– Дурак ты, Вульски. Вот тут только что выступал твой друг Карабассос, он поумнее будет. Он доктору не грубил, поэтому сейчас отправится в уютную палату, где его накормят и дадут таблетку. А ты, Вульски, дурак. На улицу я тебя не выкину, но за свое поведение ты будешь ночевать не у нас на шестом, а здесь, в приемнике. И никакого тебе сегодня диазепама.
В рапортах доктора Асеведо пациенты Карабассос и Вульски проходили по ведомству «маниакально-депрессивный психоз». За престарелой Флорой Кабесас был закреплен диагноз «шизоаффективное расстройство». Она наведывалась по два-три раза в неделю, неизменно жалуясь на головокружения, хотя все прекрасно знали, что она ночует у нас потому, что дома ее бьет сын. Рано или поздно каждый из этих завсегдатаев исчезает так же внезапно, как появился.
«Чем больше мы тратим ресурсов на такую благотворительность, тем меньше у нас остается возможностей помочь тем, кто действительно нуждается в нашей помощи, – урезонивал коллег главврач. – Приятно быть матерью Терезой за больничный счет. Но зарплату-то платят за лечение больных. От чего мы лечим Карабассоса или ту же Кабесас? От тяжелой жизни? А когда к нам поступает ребенок, родившийся с пороком сердца, сын или дочь наркоманки, мы ставим ребенка на очередь, потому что у нас нет коек. Потому что на койке покоится задница Карабассоса. Не верите, полистайте отчеты за последнее полугодие…» Отчетов за полугодие я не листал, но и детей наркоманки, стоящих у нас на очереди, тоже не видел. Тем, кто нуждается в помощи больше всего, редко случается добраться до приемного покоя.
* * *
В перерывах между абсцессами и ампутациями я выхожу подышать воздухом у служебного входа, старательно не замечая переминающихся рядом завсегдатаев – коренастого Проповедника и долговязого Серхио в шапке-ушанке. Эту ушанку Серхио носит зимой и летом, она нужна, чтобы заглушать голоса. О том, насколько успешно идет борьба с голосами, можно судить также и по растительности: если нижняя часть его лица упрятана в свалявшуюся бороду, значит, ни ушанка, ни нейролептики не помогают. Бедный Серхио забивается в угол; отвернувшись от мира, он изо всех сил бьет себя запястьем по голове. Если же борода аккуратно подстрижена или вовсе отсутствует, значит, наступил период просветления. В такие дни свежевыбритый Серхио сидит на ступеньках у входа в госпиталь и, беззубо улыбаясь, машет своей шапкой-невидимкой торопящимся мимо врачам. К сожалению, в последнее время он бреется все реже.
Что же касается Проповедника, я познакомился с ним пару месяцев назад, когда в нарушение всех правил безопасности вышел на улицу во время ночного дежурства. «Молись», – сказал невесть откуда возникший человек в капюшоне. Поначалу я подумал, что обращаются не ко мне. «Я сказал, молись. Вставай на колени!» Каменное лицо, вид полного безразличия, как учили на обязательных курсах самообороны. «Ах, ты меня не слышишь? Сейчас услышишь…» Порывшись в кармане, он извлек раскладной нож с узким лезвием и показал мне его так, как дети показывают клад, найденный в песочнице: драгоценный трофей на распростертой ладони. Изо всех сил стараясь казаться спокойным, я попятился к служебному входу. «Ты куда это собрался?» Он угрожающе двинулся на меня, но, точно в ответ на его движение, где-то взвыла сирена. Проповедник остановился, глотнул воздух и, согнувшись так, как будто его самого только что пырнули ножом, зашелся в приступе астматического кашля. Удрать, пока есть возможность, или попробовать затащить астматика в больницу, чтобы там оказали помощь? Кажется, самое глупое и малодушное в такой ситуации – это стоять на месте, бессмысленно глядя, как человека трясет. Однако именно это я и делал. Подойти боязно, но боязно и оставить: если, не дай бог, помрет, ответственность будет на мне. По счастью, через несколько минут его отпустило. Прислонившись к стене, он устало съехал на корточки и напрочь забыл о моем существовании.
На следующее утро я увидел его среди ждущих в травмпункте. Как выяснилось, в предыдущую ночь он пустил по вене «спидбол», то есть смесь кокаина с героином, но, по его же словам, «перепутал пропорции», в результате чего всю ночь мучился, а под утро грохнулся об асфальт и расквасил физиономию. Меня он, конечно, не узнал, ласково называл «доктор» и «папи», виновато улыбался, то и дело засыпая посреди своего путаного рассказа о злоключениях предыдущей ночи. Человек, которому он настойчиво предлагал помолиться, в повествовании не фигурировал.
«Странно, обычно он у нас мирный, – удивился мой напарник, когда я рассказал ему о ночной встрече. – Может, ему и вправду какую-то неправильную наркоту подсунули. Вообще-то он из набожных. Прихожанин. Все пытается молитвами с героина сойти. Старается, в общем…»
Омана
Между утренним обходом и первой операцией – десятиминутный перерыв, время собраться с мыслями. За окном медленно светает, на тусклом фоне февральского неба вырисовывается трущобно-городской пейзаж. Неприветливые ларьки, полуобрушившиеся здания, решетчатый мост, украшенный гирляндой электрички. Лишь бы с погодой везло: если на улице дождь, дежурство будет более или менее спокойным. Об этой «примете» мне поведал доктор Омана, слегка обрюзгший красавец доминиканского происхождения. «Во время дождя нас никто не дергает, все по домам сидят. А вот как солнце выглянет – тут они и выползают на свет Божий. И пойдет тогда к нам острая травма сплошным потоком. Это не люди, это насекомые…» Подобные реплики в адрес собратьев от Оманы можно было услышать довольно часто. Тем не менее полтора года назад, когда ему, наконец, выпала возможность перейти на более высокооплачиваемую работу в пригородную частную клинику, он предпочел остаться в Линкольне. На вопрос «почему?» Омана отвечал, что лучше вписывается в здешний коллектив.
Коллектив, то есть постоянный состав отделения хирургии, не включавший ординаторов-индийцев или стажеров вроде меня, был настолько разношерстным и странным, что в него и впрямь трудно было бы не вписаться. Был здесь и пожилой растаман с Ямайки, специалист по мастэктомиям; и страшный, похожий на фельдфебеля немец Людерс, специализировавшийся на педиатрической хирургии; и красноносый Мэдлинкер, бывший слесарь-сантехник, в тридцать с лишним внезапно решивший заделаться травмхирургом; и ортодоксальная еврейка Рэйчел Кац, чей муж таскался в больницу по ночам, принося из дома кульки с еще теплой кошерной едой.
В вестибюле, куда я по обыкновению спускался купить отдающий бытовой химией кофе «с-молоком-без-сахара» («регьюлар кофе но» на языке пуэрториканки-продавщицы), стояли два истукана с дубинками. После стольких часов неподвижного держания крючков в операционке начинаешь чувствовать солидарность со всеми, чье дело – стоять по стойке смирно. Во всяком случае, то сомнамбулическое состояние, которое маскируется сосредоточенно хмурым выражением лица и позой боевой готовности, мне хорошо знакомо. Если бы в данную минуту в больницу ворвался какой-нибудь маньяк, эти охранники молниеносно повязали бы его, продолжая пребывать все в том же полусне. Но никакого маньяка в вестибюле не было, да и вообще никого не было, потому что на улице дождь, так что можно отключиться в открытую и стоять так втроем – они со своими дубинками, я со своим кофе, – хотя как раз в эту минуту по громкоговорителю уже в третий раз объявляли «код травмы».
В травмпункте меня встретили красноглазый, ошалевший от вечного недосыпа доктор Омана и старший ординатор Назир.
– Ты где был? – спросил Омана. – Код уже десять минут как объявили.
– Я лифта ждал…
– Слышь, доктор, не тормози. Когда вызывают, должен бежать, а не кофе пить, понял?
На носилках, вокруг которых суетился медперсонал, лежал чернокожий парень лет двадцати пяти. Когда, принимая пациента в травмпункте, ты видишь его замертво лежащим во всей наготе, подключенным к жизни с помощью многочисленных трубок, трудно поверить, что тот же человек в другое время и в другом месте мог – а главное, еще сможет – двигаться, говорить, быть «взаправду» живым. Воскрешение невероятно, речь идет о настоящем «талифа куми».
Дежурный по отделению неотложной помощи ввел в курс дела: три ножевых ранения в области шеи («Они знают, куда ножичком тыкать», – прокомментировал Омана). Пациент заинтубирован, давление и пульс в норме. Томограмма сосудов не выявила никаких очевидных повреждений. Единственно, что вызывало сомнения, – еле заметная точка на уровне раздвоения сонной артерии. Для консультации вызвали Ночного Сокола, как называли радиологов, работавших в ночную смену.
– Что это за точка? Дефект в стенке артерии?
– Не думаю, не похоже.