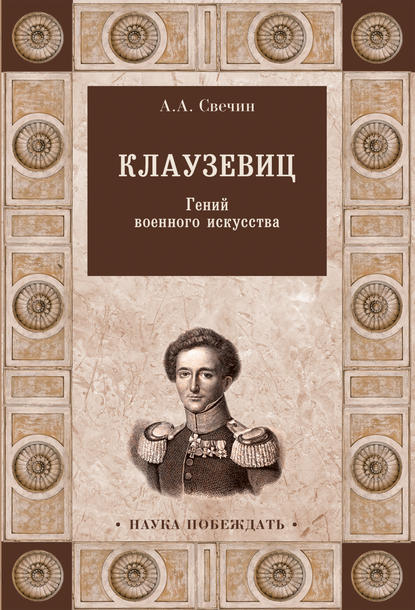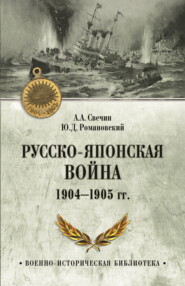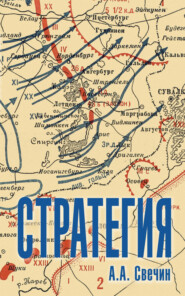По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клаузевиц. Гений военного искусства
Жанр
Серия
Год написания книги
1935
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Борьба с Наполеоном являлась прогрессивным делом и в общегерманском масштабе, поскольку господство Франции знаменовало сохранение Германии в раздробленном виде. Эта политическая раздробленность немецких земель являлась острым ножом для германской буржуазии, ограничивая все ее предприятия карликовыми масштабами, выдвигая перед ней на каждом десятке километров таможенные рогатки. Задачи экономического развития Германии предъявляли настойчивые требования устранить это препятствие. Политика объединения Германии требовала борьбы с Францией.
Этому выводу, однако, в известной мере противоречила внутренняя слабость того класса, который являлся выразителем политики объединения Германии – германской буржуазии. Дряблая немецкая буржуазия не сумела повести решительной борьбы с феодальными кругами. В решительный момент победы над Наполеоном немецкая буржуазия оказалась на поводу у феодальных верхов и осталась, как мы увидим, у разбитого корыта реакционной и расчлененной по-прежнему Германии.
Первые пять месяцев после возвращения из плена Клаузевиц провел в Берлине, разлученный с Шарнхорстом и кружком его друзей, находившихся при правительстве, оставшемся в Кенигсберге. Находясь в одиночестве, Клаузевиц составил записку «о будущих военных операциях Пруссии против Франции». Этот первый план войны за освобождение Германии представляет интерес по своей смелости и новизне стратегических взглядов. «Превосходство в смелости, новшество, быстрота», – так характеризовал он его Марии. «Если наступит крайность (т.е. решение Наполеона уничтожить Пруссию. – А.С.), остается еще путь для нашего спасения, но на этом пути нет ничего обыденного. Все лежит в области нового и исключительного, в которой мы только и можем поднять оружие против нашего врага и получить лучший и, во всяком случае, почетный жребий».
Это план борьбы Пруссии, располагающей сорокатысячной армией, с десятикратным превосходством сил Наполеона. Клаузевиц намечает ведение войны без какого-либо твердого базиса для ведения операций. Надо жертвовать территорией, чтобы не погубить армию. Задача прикрытия прусских областей автоматически вела бы к проигрышу войны и связала бы живую силу армии, являющуюся единственной ставкой, на которую можно выиграть. Оборона безнадежна, и полевые войска, возглавленные решительным вождем, должны быть брошены в тыл врага. Внезапное наступление заставит противника разделиться на много отрядов и ударит в чувствительнейший пункт всей политической системы Наполеона. Оно вызовет взрывы во Франции, где и так имеются близкие к бунту настроения, оно приведет к распадению в рядах вассалов Наполеона и будет развиваться в союзе с общественным мнением Германии и Европы. Крайне трудно уничтожить такую армию, совершенно свободную от какой-либо связи с территорией. Она сможет быстро оправиться от всякого поражения, а значение каждого ее успеха будет несоразмерно велико; если армии удастся несколько продержаться, то она явится вернейшим залогом восстановления Пруссии. Основным соображением в пользу этого плана являлось тщательно продуманное доказательство обреченности любой борьбы «другими средствами».
Война без территориального базиса и сообщений, исключительная ставка на моральный элемент вместо господствовавшего ранее в военной теории геометрического элемента, противоположный, по сравнению с Бюловом, полюс воззрений на стратегию, бесконечные решимость и радикализм автора – вот характеристика этого плана. Главные силы по замыслу должны действовать методами партизанской войны. В обстановке восстания, гражданской войны такой план, пожалуй, является возможным; вообще же осуществление его превосходит меру риска и ответственности, которые могут быть взяты на себя руководством войны. Это – крайний «левый загиб» в стратегии. Любопытно, что Клаузевиц, разрабатывая этот план из широкой политической предпосылки – борьбы за освобождение Германии, останавливается только на его военной части. Таким же военным специалистом, разрешающим военные задачи по указанию политики, остается он и на протяжении своего капитального труда.
Клаузевиц искусственно ограничивает себя одной военной стороной войны и не предъявляет политике никаких запросов. Его друзья – Шарнхорст, Гнейзенау, – которые находились в отдалении от него, в Кенигсберге, мысль которых также концентрировалась на подготовке борьбы с Наполеоном в тылу последнего, целесообразно и разумно переносили центр плана в область политики, которая должна подготовить восстание в тылу Наполеона и мобилизовать все интересы и силы немецкого народа на борьбу с французами.
У Клаузевица здесь характерный провал. Все его внимание поглощалось внешней политикой, а внутренняя политика, расстановка классовых сил, от которой зависит успех восстания, оказывались вне интересующей его сферы. Армия, которой он оперирует в своем плане, это армия старого порядка, частично пополняемая вербовкой иностранцев. О всеобщей воинской повинности как единственной основе освободительной борьбы маленькой Пруссии с мощным противником у Клаузевица нет ни одного слова. Всеобщую воинскую повинность Клаузевиц продолжал недооценивать до конца жизни. Клаузевиц в этом плане подчеркивает, что военное искусство заключается в разумном сочетании целей и средств, и далее не распространяется на эту тему. Этому суженному представлению о военном искусстве Клаузевиц остался верен и в капитальном труде. Разумная подготовка «средств» никогда не привлекала его внимания.
План Клаузевица исходит из общего для кружка друзей Шарнхорста положения: самый смелый путь является для Пруссии единственно возможным и потому самым надежным. Но было бы ошибочно видеть в радикализме стратегической мысли Клаузевица страсть, увлечение, иллюзионизм. Клаузевиц стремится, хотя и неуспешно, быть возможно объективным и трезвым реалистом. Еще незадолго до составления этого плана Клаузевиц бешено обрушивался на Россию за позор заключения Тильзитского мира. В своем же плане он пишет: «Русских всегда обвиняют в том, что они опаздывают» (прийти на помощь своим союзникам. – А.С.). Это то же самое, что печалиться: «Как плохо устроена природа, посылающая зимой снег, когда и без того холодно».
Клаузевиц провел в оккупированном французами Берлине зиму 1807/08 года. Мать Марии по-прежнему отказывала в своем согласии на брак. Еще летом 1808 года Мария писала жениху: «Мама добрая, но молчит». Тактика Марии заключалась в том, что она «по секрету» писала прусским принцессам и знакомым о своем романе с Клаузевицем и этой оглаской заставила мать в конце концов примириться с необходимостью брака.
Клаузевицу предстояло вновь разлучиться со своей невестой. Прусское правительство ютилось в Кенигсберге. Там находился и Шарнхорст, к которому и стремился устроиться на работу Клаузевиц. Оставшаяся одна в Берлине, Мария занялась самообразованием в области истории, чтобы стать на уровень умственных запросов своего жениха. Научные интересы Клаузевица вращались в области истории и военного искусства. Поэтому Мария перенесла свои интересы из эстетики в историю. В ноябре 1808 года она писала жениху: «Не помню, рассказывала ли я тебе, что читаю Геродота; он интересует меня неописуемо. Когда читаешь плавное изложение самих античных авторов, получаешь совершенно другое впечатление по сравнению с изучением их через посредство современных компиляций, в которых, в большинстве случаев, полностью утрачивается их дух. Я намереваюсь посвятить такому чтению все время, которое еще проведу здесь». Через 5 недель Мария писала: «Вечерами теперь читаю историю Тридцатилетней войны и, кроме того, продолжаю изучать историю Греции по древним авторам и современным трудам. В эти дни мне бросилось в глаза удивительное сходство между Филиппом Македонским и особой, которую мы знаем (Наполеоном. – А.С.), а также некоторое сходство всего этого времени с нашей эпохой». За Тридцатилетнюю войну Мария взялась потому, что Клаузевиц решил серьезно изучить действия Густава Адольфа в Тридцатилетней войне и этим положить начало своим систематическим занятиям по военному искусству. Мария готовилась дискутировать с Клаузевицем об основных началах его первого крупного труда, вошедшего в IX том посмертного издания.
В начале апреля 1808 года Клаузевиц, сопровождая принца Августа, прибыл в Кенигсберг, куда переехало прусское правительство из оккупированного французами Берлина. Здесь работали Штейн, Шарнхорст и его друзья над подготовкой военного возрождения Пруссии. Только через 10 месяцев с Клаузевица было снято бремя адъютантских обязанностей при принце Августе, что вызвало его радостный вздох. В феврале 1809 года Клаузевиц был переведен в Генеральный штаб и сделался начальником канцелярии Шарнхорста. Но уже с самого прибытия в Кенигсберг Клаузевиц вошел в тесный круг друзей Шарнхорста, работавших над реформой.
Оккупированная французскими войсками Германия покрылась бесчисленным количеством различных союзов – «ферейнов», в большей или меньшей степени нелегальных и различным образом маскировавших свою основную цель – освобождение из-под власти Наполеона. Наибольшую известность среди них получил начавший организовываться в Кенигсберге в момент приезда Клаузевица тайный «морально-научный союз», получивший кличку «Тугендбунд», т.е. Союз добродетели[6 - Это была довольно невинная конспирация чиновников с участием принцев под негласной опекой прусской королевы.]. Для Клаузевица цели Тугендбунда являлись слишком мелкими и умеренными, и он отказался войти в него. После того как по требованию Наполеона Штейн был удален из правительства, а прусский король, наткнувшись на сопротивление сторонников борьбы с Наполеоном, начал подозрительно относиться ко всем конспираторам, Тугендбунд развалился. Он просуществовал всего два года. Воздержался от вступления в это общество и Шарнхорст, что не помешало молве сделать из него самого страшного подпольщика Тугендбунда. Правда, чтобы контролировать действия офицерской молодежи, Шарнхорст провел на руководящий пост директора подпольного «военного института» своего друга и помощника Бойена[7 - Тугендбунд имел и особую военную секцию – «Военный институт» – нечто вроде тайного Военно-научного общества, в котором числилось вначале 38 молодых офицеров.].
В это время возник также радикальный кружок реформы, собравшийся около Шарнхорста, в который входил и кумир немецкой патриотической буржуазии – Гнейзенау.
Стоявший во главе реформы армии Шарнхорст исходил из убеждения, что ни одна политическая форма, в том числе и предложенная им реорганизация не имеет абсолютной ценности. То, что является духом, т.е. содержанием, выше формы. Дороже всего Шарнхорст ценил признание, что реформа открывает широкую дорогу для выявления национальных достоинств. «В новых порядках нельзя рассматривать отдельных вопросов вне связи с целым. Поднять дух армии, теснее связать армию и народ и указать им направление к их величайшим целям – вот система, лежащая в основе новых порядков».
Когда реформаторская деятельность Шарнхорста оказалась в 1808 году заторможенной увольнением стоявшего во главе кабинета министров Штейна, очень авторитетный, но реакционный прусский генерал Йорк от души одобрил французское вмешательство во внутренние дела Пруссии: «Слава богу, одна безумная башка (Штейн) раздавлена, теперь другая ехидная гадина (Шарнхорст) захлебнется собственным ядом».
В кружке реформы Клаузевиц, перед которым стояла цель – освобождение Германии, получил прозвище «Безусловный». Среди этих талантливых людей – Гнейзенау, Грольмана, Бойена – Клаузевиц быстро занял видное положение, благодаря своему уму и своим определенным взглядам, а также потому, что он являлся наиболее близким другом и доверенным признанного вождя кружка – Шарнхорста.
Г-жа Бегелен, кокетничавшая с Гнейзенау, так описывает часть этого кружка в его героические дни начала освободительной войны (1813): «Гнейзенау выглядит индюком. Клаузевиц имеет на него решительное влияние и представляется мне как вождь партии. Он честолюбив и благоразумен. Мне представляется, что он домогается личного благополучия и скрывает это под маской защиты общих интересов. Самый темпераментный – Грольман». В этой злой характеристике, приписывающей Клаузевицу совершенно несвойственные ему карьеризм и лицемерие, интересно лишь признание чрезвычайно авторитетного положения Клаузевица в кружке передовых людей Пруссии.
При способностях Клаузевица и крупном положении среди людей, взявшихся за переделку прусской армии, следовало бы ожидать значительного его участия в деле реформы. Ведь он был ближайшим сподвижником Шарнхорста, проводившего в эти годы перестройку вербованных войск старого порядка в современную армию, основанную на коротких сроках службы и всеобщей воинской повинности. Какое богатство вопросов, связанных с наилучшей подготовкой к войне этого «вооруженного народа», должно было представляться Клаузевицу! Однако надо признать, что участие Клаузевица в реформе было чисто формальное. Он явно тяготился им. Эта работа казалась ему слишком мелочной и слишком далекой от поглощавшей его цели – разгрома французов.
Клаузевиц являлся сторонником немедленного выступления для использования того напряжения, которое охватило всю Европу во второй половине года при известиях о поражениях французских войск в Испании и Португалии. Обширная же работа по военной реформе, которая должна была сказаться только через несколько лет, отвлекала внимание от использования благоприятного момента, когда и Австрия зашевелилась и начала вооружаться на борьбу с Наполеоном. Притом Клаузевиц никогда не проявлял интереса к подготовке вооруженных сил, а только к их расходованию. Эта подготовительная работа была тесно связана с внутренней политикой, с борьбой против феодальных пережитков, с новой расстановкой в военных вопросах классовых сил дворянства и буржуазии; все эти вопросы живо волновали Шарнхорста, но оставляли равнодушным Клаузевица, который в политике проявлял крайнюю умеренность взглядов и совершенно чужд был какому-либо радикализму. Если в области стратегических планов Клаузевиц представлял наиболее решительные и новые взгляды, то в работе над реформой армии он оказывался наиболее умеренным и консервативным из всего кружка, что и дало повод г-же Бегелен признать его благоразумие.
Когда Клаузевиц перешел с адъютантской службы на службу к Шарнхорсту, он писал Марии: «Работа мне кажется теперь такой легкой! Я как будто вышел из холодной могилы и в хороший весенний день вернулся к жизни!» Сердечные отношения с Шарнхорстом не нарушались. Последний признавал, что доклады Клаузевица являлись для него отдыхом. Клаузевиц по движению лица Шарнхорста уже догадывался о его резолюции и умел тотчас же совершенно точно облечь его взгляды в соответственные выражения. Общение с Шарнхорстом вливало в Клаузевица новые силы и вызывало в его мрачном настроении светлые проблески.
Вот как он описывает один из них в письме к Марии от 25 апреля 1808 года: «Вчера я стоял на мосту, переброшенном через величественный Прегель, там, где кончается кенигсбергский порт. Углубленный в свои мысли, я смотрел на течение воды. Внезапно я почувствовал себя очнувшимся под влиянием разнообразия впечатлений, теснившихся во мне со всех сторон, и мой несколько возбужденный мозг был поражен множеством различных явлений, которые без моего ведома скользили мимо меня. Я находился в наиболее богатой и оживленной части Кенигсберга. Было воскресенье, и вечерний воздух впервые наполнился благоуханием весны. Все было в движении. По мосту катились коляски с нарядными женщинами, следовавшими на какое-то торжество. Проходили купцы, оживленно беседуя о своих капиталах, доверенных сомнительным волнам моря. Озабоченный государственный деятель проезжает в коляске через толпу, не замечая ни окружающую его толчею, ни ордена, блестящие на его груди и привлекающие взоры всех. На мосту сидит нищенка и изливает, напевая вполголоса, свои горести невнимательному слуху прохожих. Удовлетворенная мелодия одинокой флейты снисходит на воду с высоты балкона. Значительно больший авторитет чувствуется в гулком сигнале горна, который с высоты замковой башни слышен всему Кенигсбергу. Я не знаю, возможно ли этими штрихами восстановить картину, но человек, который одновременно воспринимает эти столь различные впечатления, чувствует, как они складываются в удивительное настроение».
Но, по существу, организационная работа не удовлетворяла Клаузевица. Важнейшие социальные сдвиги того времени были ему чужды. Когда Шарнхорст провел отмену телесных наказаний в армии, Клаузевицу было поручено поддержать это очень важное мероприятие в печати. «Ты можешь себе представить,– писал он Марии, – что на третьей статье я был уже сыт этим законом по горло». Этот недостаток энтузиазма Клаузевица к реформам выступает особенно ярко по сравнению с Гнейзенау, разразившимся громовой статьей «Свобода спины». Гнейзенау вспоминает о слове «свобода», которое раздается уже двадцать лет по Европе. Теперь дело идет о свободе в узком понимании – о свободе солдата от палочных ударов. Эта свобода является предвестницей классовых изменений в составе армии, установление ее является необходимой подготовкой для проведения всеобщей воинской повинности.
Расхождение в вопросах внутренней политики в кружке реформы смягчалось тем, что многие члены кружка, например Гнейзенау, считали все правительства государств, сохранявших еще старый порядок, обреченными. Но они стремились избежать больших потрясений и увещевали королей в необходимости «революции свыше». В конце 1809 года Клаузевиц, с беспокойством думая о революции, писал: «Я полагаю, что материал для смуты залегает повсюду очень глубоко и в большом количестве и вызовет еще явления совершенно другого порядка, чем виденные нами. Европе не уйти от крупной и всеобщей революции… Только те короли, которые поймут истинный смысл предстоящего преобразования и сами постараются его предупредить, смогут удержаться… Правда, в небольшом количестве имеются малодушные, которые стремятся удержать этот поток, первые капли которого уже оросили их одежду. Явления, вызываемые с безудержной мощью натиском эпохи, они склонны приписывать козням партии, тайного общества или даже отдельных лиц».
Кружок либеральных, весьма умеренных реформ и являлся в глазах реакционных помещичье-юнкерских кругов той партией, от которой шла вся революционная зараза. Самым злокозненным был, конечно, Шарнхорст, которого они считали английским шпионом. «Благонамеренные» установили за ним наблюдение и действительно открыли тайные сношения Шарнхорста с английским правительством через капитана торгового судна. Но здесь «благонамеренные» просчитались: они забыли, что основным двурушником был прусский король, явный союзник Наполеона, защитник континентальной системы, поддерживавший, однако, через Шарнхорста связи и с враждебной Англией. «Благонамеренным» пришлось извиниться и потушить скандал.
Несмотря на свою немногочисленность и отсутствие оформленной организации, кружок реформы являлся подлинной политической партией, объединенной на платформе внешней политики, устремленной на освобождение Германии из-под власти Наполеона. И поскольку эта партия ставила выше всего задачу объединения Германии, в ней нарастало критическое отношение к Пруссии и прусскому королю, стремившемуся обеспечить свои маленькие эгоистические интересы. Эта партия резко перешла в оппозицию в 1809 году, когда прусский король отказался поддержать Австрию, вступившую в войну с Наполеоном под общегерманскими лозунгами. «В моих глазах, – писал Штейн, – все династии одинаковы, они представляют только орудие». Клаузевиц сделал заметку: «Постоянные причитания Фридриха II о стремлении австрийской династии к универсальному господству представляют не что иное, как проявление эгоизма». В письме 23 апреля 1809 года он жестоко осуждает прусских офицеров, которые, опасаясь потерять насиженное местечко и предпочитая учебный плац полю сражения, не думают о том, чтобы бросить службу прусскому королю, и кричат о своей лояльности: «У них на языке все время звучит «пруссаки», чтобы слово «немцы» не напоминало им о более трудном и священном долге».
В 1809 году ближайшей задачей военной партии являлась помощь Австрии, которая объявила войну Наполеону. Ближайший сподвижник Гнейзенау по защите Кольберга, майор Шиль, командовавший в Берлине гусарским полком, начал на свой страх со своим полком войну с Наполеоном. Прусский король квалифицировал поступок Шиля как коллективное дезертирство целого полка. По требованию Наполеона прусский военный суд судил и приговорил к расстрелу Шиля и его ближайших помощников, взятых в плен. Клаузевиц и его друзья восторгались Шилем, хотя и осуждали его за неорганизованность выступления. «Смерть Шиля огорчает меня, как потеря самого дорогого брата», – писал Клаузевиц.
Самый даровитый в военном отношении и темпераментный член кружка, будущий начальник прусского Генерального штаба Грольман перешел на австрийскую службу. Просьба к прусскому королю об увольнении была выражена Грольманом в следующей форме: «Какая польза будет вашему величеству, если вы задержите меня силой? Вы уничтожите свободного человека, который сражается за ваше дело, и сохраните раздавленного раба, который с внутренней злобой будет относиться к государству, воспрепятствовавшему выполнению его священного долга». Когда Австрия заключила мир с Наполеоном, Грольман переехал сражаться против Франции в Испанию, там был взят в плен, но бежал из Франции в Пруссию.
Клаузевиц полностью поддерживал Грольмана и собирался следовать по тому же пути. Его задержала неудавшаяся попытка, сделанная им совместно с Гнейзенау, организовать коллективный уход из прусской армии в виде создания особого немецкого легиона, который должна была взять на свое содержание Англия и который сражался бы вместе с австрийской армией на самых ответственных участках. Просьба Клаузевица к австрийскому военному уполномоченному в Кенигсберге о переводе в австрийские войска уже запоздала.
Любопытно отношение Марии к предложению Клаузевица перейти на австрийскую службу, что должно было отдалить или даже поставить под вопрос брак с ней. Мария мужественно писала Клаузевицу: «В своих планах на будущее не позволяй мыслям обо мне влиять на твое решение. Все, что я имею, это твоя любовь, но я никогда не прощу себе, если ты для меня из-за моих мнений или желаний принесешь какую-либо жертву, о которой впоследствии пожалеешь. Думай о себе и своей судьбе, а не о моей… Действуй, я выдержу».
Готовившийся перевод Клаузевица в австрийскую армию в 1809 году не состоялся из-за сражения под Ваграмом, после которого было заключено перемирие; оно привело к новому торжеству Наполеона. Вот как реагировала на эти события Мария, готовая на всякие личные жертвы: «Ты понимаешь, дорогой друг, что, получив это сообщение, я не была в состоянии даже взяться за перо, и сейчас еще оно дрожит в моих руках. Я была готова к новым проигранным сражениям, к повторению ошибок и злоупотреблений, но не к такому жалкому концу, когда светлое пламя, долженствовавшее осветить и согреть всю Германию, оказалось потушенным, как загоревшийся пук соломы. Правда, так быстро изменились настроения вождей, но не нации, но на что способна нация, предводимая такими вождями! Мое сознание теряется в этом хаосе несчастий и унижений, и мое сердце разрывается от представления о твоем горе, отчетливо рисующемся мне. Если бы я могла, дорогой и милый друг, создать тебе достойное бытие ценой счастливейших дней моей жизни, как охотно я бы это сделала для тебя!»
Любовь Марии являлась для Клаузевица «превентивной наградой за богатую подвигами жизнь». Под влиянием ее очарования у Клаузевица «ветви жизненного дерева вновь зазеленели». Без совершения подвига любовь Марии рисовалась Клаузевицу как «грабеж небес». Она являлась «весталкой, поддерживавшей в нем огонь жизни».
Клаузевиц тяжело переживал катастрофическое положение Пруссии, и когда он склонен был считать себя лишним человеком, Мария повела борьбу с его пессимизмом: «Усилия не пропадают даром: ты все же выигрываешь во внутренней силе и совершенстве». «Вообще я твердо убеждена, что жизнь порядочного человека никогда не проходит даром, даже если ему не представляется случая принести обществу определенную пользу. Само его бытие уже является благодеянием для общества, и никогда еще не было большей нужды в этом благодеянии, как в наше время, когда подлинная добродетель встречается так редко. Под влиянием трудностей времени и всемогущего влияния эгоизма, легкомыслия и властолюбия добродетель могла бы совершенно исчезнуть, если бы не продолжало существовать несколько честных, неподкупных и неизменных характеров, хранящих для будущего искры, из которых когда-нибудь разгорится светлое пламя». Пожалуй, для полного понимания переживаний Клаузевица и этого текста, относящегося к концу 1808 года, следует напомнить о том, что это был первый период подъема национально-освободительного движения.
Особенно сильны позиции партии реформы были в 1809 году, когда главной массой прусских войск, сосредоточенных в Померании, командовал Блюхер, вокруг которого создавались легенды, на которого друзья Шарнхорста могли смело положиться. Весь аппарат военного министерства был в руках Шарнхорста. «Король еще не смеет называть нас иначе как доброй партией», – писал Клаузевиц. Человеком «действия» в партии являлся Гнейзенау, с которым Клаузевиц очень близко сошелся летом 1808 года. Дружба между ними играла выдающуюся роль до конца жизни Клаузевица. Поэтому мы сделаем здесь небольшое отступление, чтобы познакомиться ближе с красочным образом этого героя освободительной войны.
Гнейзенау
Отцом Гнейзенау был веселый, беспутный и безродный техник, кочевавший в мирное время в поисках архитектурной работы из города в город, не имевший никогда ни копейки и устроившийся во время Семилетней войны на должность артиллерийского офицера в набранные без разбора имперские войска. Настоящая фамилия его была Нейтхардт. Осведомившись, что в Австрии проживают какие-то богатые Нейтхардты, имеющие очень красивое поместье Гнейзенау, он решил, что для артиллерийского офицера будет выглядеть солиднее, если он к своей фамилии присоединит «фон Гнейзенау».
При проезде через Вюрцбург Нейтхардт воспламенил сердце молоденькой девушки. Состоятельные родители, к тому же ярые католики, не хотели слышать о браке их дочери с каким-то проходимцем, бедняком и к тому же лютеранином. Девушка бежала от родителей и, не имея другого пристанища, следовала в повозке за артиллерийской частью, в которой служил муж. В этой повозке, за два дня до сражения под Торгау, в 1760 году родился наш герой. Охватывающий маневр Фридриха II вынудил обозы к быстрому ночному отступлению. Повозка молодой матери сломалась. Страдая от лихорадки, с ребенком на руках, она пересела на облучок военного фургона, бросив свой жалкий скарб. Ночью она уронила ребенка на дорогу, а к утру скончалась. Новорожденного подобрал обозный солдат. Отец, не найдя в обозе жены, отдал грудного младенца на воспитание в первую попавшуюся крестьянскую семью и забыл его на долгие годы.
Гнейзенау, вспоминая свое детство, говорил, что голода он не знал – у него всегда был кусок черного хлеба, но ноги его не имели никогда обуви. Главное его занятие было пасти гусей. Прошло около десяти лет, когда его разыскали и взяли к себе на воспитание дедушка и бабушка с материнской стороны. Внезапно он был перенесен в состоятельную буржуазную обстановку. Его воспитывали в иезуитской школе в Вюрцбурге, постоянно упрекая в том, что он крещен по лютеранскому обряду. До конца своей жизни Гнейзенау затруднялся определить, католик он или протестант, что нисколько не смущало его равнодушия.
От бабушки ему досталось небольшое наследство, которое он пропустил в один веселый год, поступив в Эрфуртский университет. Веселый, находчивый, красивый, очень красноречивый, Гнейзенау всегда и у всех пользовался успехом. Девушки отравлялись из-за Гнейзенау, мужчины дрались с ним на поединках: у Гнейзенау насчитывается в жизни до семи дуэлей, не считая полусерьезных студенческих. Деньги быстро таяли. Уже после одного года студенчества Гнейзенау был вынужден искать себе профессию.
В 19 лет он поступил в австрийский гусарский полк «кадетом», как называли в Австрии юнкеров, рассчитывая быстро сделать карьеру, так как Австрия находилась тогда в войне с Пруссией за баварское наследство. Но война закончилась почти тотчас же после поступления Гнейзенау на службу. Находясь в отпуске, Гнейзенау участвует в дуэли с печальным исходом, за которую ему могло достаться от военного начальства. Тогда, не соблюдая всех положенных формальностей, Гнейзенау раскланивается с австрийской армией и предлагает свои услуги, уже в качестве знакомого с военным делом молодого офицера, маркграфу Ансбах-Байрейтскому, одному из тех мелких немецких князьков, которым война Соединенных Штатов за независимость открыла новые источники дохода – поставку пушечного мяса Англии.
Гнейзенау принят на службу в егерский батальон и работает над своим военным образованием. Мы можем заключить о том, что он не был обыкновенным беспутным малым и что у него были более широкие интересы, по его сохранившемуся неплохому стихотворению 1781 года «На смерть Лессинга». Очередь отправления в Америку доходит до него только в 1782 году, к самому шапочному разбору; сражаться ему уже не пришлось, так как понесенные английской армией неудачи заставили Англию признать независимость Соединенных Штатов.
По возвращении в 1783 году Гнейзенау несколько лет служит в Байрейте, в пехотном полку, и завоевывает себе в небольшом городке всеобщие симпатии. По свидетельству Александра Гумбольдта, посетившего Байрейт в 1796 году, местные жители еще через десять лет после отъезда Гнейзенау с интересом вспоминали о нем.
Но служба в маленьком гарнизоне не удовлетворяет Гнейзенау, несравненно более образованного, чем его товарищи; он изучает науки, требующиеся для военного инженера и офицера Генерального штаба, и обращается к Фридриху II, приступившему к формированию королевской свиты по генерал-квартирмейстерской части, с предложением своих услуг. Фридрих II соглашается и предлагает ему явиться в Берлин. Но Гнейзенау, уволившийся из ансбахских войск, не понравился Фридриху II при личном представлении; Фридрих II обладал удивительной способностью браковать каждого сколько-нибудь талантливого человека. Прусский король обманул Гнейзенау и принял его в прусскую армию, но не в Генеральный штаб, а младшим офицером в пехотный полк, расположенный в глухом силезском гарнизоне.
С 1786 года Гнейзенау на 20 лет погряз в скромном существовании маленького гарнизона. В Силезии Гнейзенау женился – так же молниеносно, как делал все в жизни. Его приятель, жених «хорошенькой Котвиц», бойкой помещичьей дочки, был убит на дуэли, и на Гнейзенау, бывшего секундантом, выпал тяжелый долг сообщить невесте это горестное известие. «Хорошенькая Котвиц» пришла в такое отчаяние, что Гнейзенау почувствовал необходимость утешить ее и, не зная ни в чем предела, тут же предложил ей свою руку и сердце.
К моменту катастрофы прусского государства 46-летний Гнейзенау дослужился уже до чина капитана, командовал батальоном, имел пятерых детей и ожидал рождения шестого, читал агрономические труды и деятельно управлял небольшим имением жены.
С этого времени начинается резкий сдвиг в развитии Гнейзенау. Суждения его в начале кампании 1806 года, в противоположность высказываниям Клаузевица, отличались большой зрелостью. Летом 1806 года он записал: «У нас господствует большое недовольство миром. Справедливо ли? Это большой вопрос. Кто бы мог сказать, какой ход приняли бы события при противоположной политике?» Мобилизация вызвала у него замечание: «Поздно, быть может, не слишком поздно». Перед самой катастрофой он писал: «Со стороны я вздыхаю. Много времени упущено, занимались мелочами, давали представления публике, а весьма серьезное дело – подготовку к войне – забыли. Дух офицеров превосходен, на этом можно строить большие надежды, но… Что будут делать французы дальше, я знаю. Но что я буду сам делать, мне неизвестно. Я отчетливо представляю наступление французов вдоль реки Заалы. Но я сижу в низших чинах, и мое слово не имеет цены. У меня щемит сердце, когда я представляю себе последствия. Отечество, избранное мною отечество! Я забыт в своем маленьком гарнизоне и лично могу только драться, но не советовать».
Гнейзенау участвовал в первом же бою этой кампании, под Заальфельдом. При отступлении, прикрывая батарею, батальон Гнейзенау сражался не по уставу – не в сомкнутом развернутом строю, а по-новому – весь рассыпанный в цепь против французских стрелков. Это свидетельствует, что поездка Гнейзенау в Америку не пропала даром, и он не только усвоил американские передовые взгляды на тактику пехотного боя, но и соответственно подготовил свой батальон, забежав совершенно самостоятельно далеко вперед устава.
В бою под Заальфельдом Гнейзенау был ранен и должен был сдать командование батальоном. Уехать для лечения в тыл ему не удалось – катастрофа застигла его раньше. Раненый Гнейзенау в день сражения под Йеной и при отступлении выполняет обязанности офицера Генерального штаба при штабе армии.
В конечном счете посланный для связи из одной колонны в другую, он прибывает в то время, когда эта колонна уже сдалась французам. Возвращается обратно – там армия тоже сдается. Гнейзенау остается одиноким и без средств на территории, занятой французами. А вдали, в Восточной Пруссии, сопротивление при помощи союзников – русских войск – продолжается. Гнейзенау пытается пробраться в Кенигсберг через шведскую Померанию, но шведская пограничная охрана имеет приказание никого не пропускать. Узнав, что шведские пограничники арестовывают французских шпионов, Гнейзенау прибегает к последнему средству: он подходит к шведским пограничникам и так искусно выполняет роль французского шпиона, что шведы немедленно арестовывают его и доставляют своему высшему командованию. На допросе у шведского генерала Гнейзенау сознается, что сознательно обманул пограничников, и шведы дают ему возможность морем пробраться в Кенигсберг.
В Кенигсберге подвиги и приключения Гнейзенау были награждены чином майора, но он не понравился прусскому королю. В небольшом корпусе, уцелевшем из всей прусской армии, все вакансии оказались занятыми, и Гнейзенау был назначен командовать запасным батальоном. Его просьба – дать возможность сформировать партизанский отряд – была отклонена. Но судьба, систематически мешавшая Клаузевицу выделиться, избрала Гнейзенау своим баловнем.
Наиболее патриотичной в Пруссии была буржуазия небольшого города – крепости Кольберга, многократно выдержавшего в XVIII веке осаду шведов и русских. Сдача шести больших прусских крепостей их комендантами заставила вождей кольбергской буржуазии проявлять особую бдительность по отношению к своему коменданту, старому полковнику фон Лукаду, не пользовавшемуся доверием. Когда же у коменданта крепости произошло столкновение с капитаном Шилем, организовавшим из Кольберга партизанские действия на тылах французов, и комендант приказал арестовать Шиля, по городу разнеслась весть о том, что комендант подготовляет измену: начался бунт. Депутация горожан требовала у прусского короля дать им другого, надежного коменданта. Необходимость удовлетворить строптивых буржуа заставила короля обсудить этот вопрос со своими министрами. Бейме, один из влиятельных гражданских статс-секретарей, заявил, что встретил только что на лестнице незнакомого майора, который ему кажется очень подходящим для горячего поста коменданта Кольберга. Так состоялось назначение Гнейзенау.
Этому выводу, однако, в известной мере противоречила внутренняя слабость того класса, который являлся выразителем политики объединения Германии – германской буржуазии. Дряблая немецкая буржуазия не сумела повести решительной борьбы с феодальными кругами. В решительный момент победы над Наполеоном немецкая буржуазия оказалась на поводу у феодальных верхов и осталась, как мы увидим, у разбитого корыта реакционной и расчлененной по-прежнему Германии.
Первые пять месяцев после возвращения из плена Клаузевиц провел в Берлине, разлученный с Шарнхорстом и кружком его друзей, находившихся при правительстве, оставшемся в Кенигсберге. Находясь в одиночестве, Клаузевиц составил записку «о будущих военных операциях Пруссии против Франции». Этот первый план войны за освобождение Германии представляет интерес по своей смелости и новизне стратегических взглядов. «Превосходство в смелости, новшество, быстрота», – так характеризовал он его Марии. «Если наступит крайность (т.е. решение Наполеона уничтожить Пруссию. – А.С.), остается еще путь для нашего спасения, но на этом пути нет ничего обыденного. Все лежит в области нового и исключительного, в которой мы только и можем поднять оружие против нашего врага и получить лучший и, во всяком случае, почетный жребий».
Это план борьбы Пруссии, располагающей сорокатысячной армией, с десятикратным превосходством сил Наполеона. Клаузевиц намечает ведение войны без какого-либо твердого базиса для ведения операций. Надо жертвовать территорией, чтобы не погубить армию. Задача прикрытия прусских областей автоматически вела бы к проигрышу войны и связала бы живую силу армии, являющуюся единственной ставкой, на которую можно выиграть. Оборона безнадежна, и полевые войска, возглавленные решительным вождем, должны быть брошены в тыл врага. Внезапное наступление заставит противника разделиться на много отрядов и ударит в чувствительнейший пункт всей политической системы Наполеона. Оно вызовет взрывы во Франции, где и так имеются близкие к бунту настроения, оно приведет к распадению в рядах вассалов Наполеона и будет развиваться в союзе с общественным мнением Германии и Европы. Крайне трудно уничтожить такую армию, совершенно свободную от какой-либо связи с территорией. Она сможет быстро оправиться от всякого поражения, а значение каждого ее успеха будет несоразмерно велико; если армии удастся несколько продержаться, то она явится вернейшим залогом восстановления Пруссии. Основным соображением в пользу этого плана являлось тщательно продуманное доказательство обреченности любой борьбы «другими средствами».
Война без территориального базиса и сообщений, исключительная ставка на моральный элемент вместо господствовавшего ранее в военной теории геометрического элемента, противоположный, по сравнению с Бюловом, полюс воззрений на стратегию, бесконечные решимость и радикализм автора – вот характеристика этого плана. Главные силы по замыслу должны действовать методами партизанской войны. В обстановке восстания, гражданской войны такой план, пожалуй, является возможным; вообще же осуществление его превосходит меру риска и ответственности, которые могут быть взяты на себя руководством войны. Это – крайний «левый загиб» в стратегии. Любопытно, что Клаузевиц, разрабатывая этот план из широкой политической предпосылки – борьбы за освобождение Германии, останавливается только на его военной части. Таким же военным специалистом, разрешающим военные задачи по указанию политики, остается он и на протяжении своего капитального труда.
Клаузевиц искусственно ограничивает себя одной военной стороной войны и не предъявляет политике никаких запросов. Его друзья – Шарнхорст, Гнейзенау, – которые находились в отдалении от него, в Кенигсберге, мысль которых также концентрировалась на подготовке борьбы с Наполеоном в тылу последнего, целесообразно и разумно переносили центр плана в область политики, которая должна подготовить восстание в тылу Наполеона и мобилизовать все интересы и силы немецкого народа на борьбу с французами.
У Клаузевица здесь характерный провал. Все его внимание поглощалось внешней политикой, а внутренняя политика, расстановка классовых сил, от которой зависит успех восстания, оказывались вне интересующей его сферы. Армия, которой он оперирует в своем плане, это армия старого порядка, частично пополняемая вербовкой иностранцев. О всеобщей воинской повинности как единственной основе освободительной борьбы маленькой Пруссии с мощным противником у Клаузевица нет ни одного слова. Всеобщую воинскую повинность Клаузевиц продолжал недооценивать до конца жизни. Клаузевиц в этом плане подчеркивает, что военное искусство заключается в разумном сочетании целей и средств, и далее не распространяется на эту тему. Этому суженному представлению о военном искусстве Клаузевиц остался верен и в капитальном труде. Разумная подготовка «средств» никогда не привлекала его внимания.
План Клаузевица исходит из общего для кружка друзей Шарнхорста положения: самый смелый путь является для Пруссии единственно возможным и потому самым надежным. Но было бы ошибочно видеть в радикализме стратегической мысли Клаузевица страсть, увлечение, иллюзионизм. Клаузевиц стремится, хотя и неуспешно, быть возможно объективным и трезвым реалистом. Еще незадолго до составления этого плана Клаузевиц бешено обрушивался на Россию за позор заключения Тильзитского мира. В своем же плане он пишет: «Русских всегда обвиняют в том, что они опаздывают» (прийти на помощь своим союзникам. – А.С.). Это то же самое, что печалиться: «Как плохо устроена природа, посылающая зимой снег, когда и без того холодно».
Клаузевиц провел в оккупированном французами Берлине зиму 1807/08 года. Мать Марии по-прежнему отказывала в своем согласии на брак. Еще летом 1808 года Мария писала жениху: «Мама добрая, но молчит». Тактика Марии заключалась в том, что она «по секрету» писала прусским принцессам и знакомым о своем романе с Клаузевицем и этой оглаской заставила мать в конце концов примириться с необходимостью брака.
Клаузевицу предстояло вновь разлучиться со своей невестой. Прусское правительство ютилось в Кенигсберге. Там находился и Шарнхорст, к которому и стремился устроиться на работу Клаузевиц. Оставшаяся одна в Берлине, Мария занялась самообразованием в области истории, чтобы стать на уровень умственных запросов своего жениха. Научные интересы Клаузевица вращались в области истории и военного искусства. Поэтому Мария перенесла свои интересы из эстетики в историю. В ноябре 1808 года она писала жениху: «Не помню, рассказывала ли я тебе, что читаю Геродота; он интересует меня неописуемо. Когда читаешь плавное изложение самих античных авторов, получаешь совершенно другое впечатление по сравнению с изучением их через посредство современных компиляций, в которых, в большинстве случаев, полностью утрачивается их дух. Я намереваюсь посвятить такому чтению все время, которое еще проведу здесь». Через 5 недель Мария писала: «Вечерами теперь читаю историю Тридцатилетней войны и, кроме того, продолжаю изучать историю Греции по древним авторам и современным трудам. В эти дни мне бросилось в глаза удивительное сходство между Филиппом Македонским и особой, которую мы знаем (Наполеоном. – А.С.), а также некоторое сходство всего этого времени с нашей эпохой». За Тридцатилетнюю войну Мария взялась потому, что Клаузевиц решил серьезно изучить действия Густава Адольфа в Тридцатилетней войне и этим положить начало своим систематическим занятиям по военному искусству. Мария готовилась дискутировать с Клаузевицем об основных началах его первого крупного труда, вошедшего в IX том посмертного издания.
В начале апреля 1808 года Клаузевиц, сопровождая принца Августа, прибыл в Кенигсберг, куда переехало прусское правительство из оккупированного французами Берлина. Здесь работали Штейн, Шарнхорст и его друзья над подготовкой военного возрождения Пруссии. Только через 10 месяцев с Клаузевица было снято бремя адъютантских обязанностей при принце Августе, что вызвало его радостный вздох. В феврале 1809 года Клаузевиц был переведен в Генеральный штаб и сделался начальником канцелярии Шарнхорста. Но уже с самого прибытия в Кенигсберг Клаузевиц вошел в тесный круг друзей Шарнхорста, работавших над реформой.
Оккупированная французскими войсками Германия покрылась бесчисленным количеством различных союзов – «ферейнов», в большей или меньшей степени нелегальных и различным образом маскировавших свою основную цель – освобождение из-под власти Наполеона. Наибольшую известность среди них получил начавший организовываться в Кенигсберге в момент приезда Клаузевица тайный «морально-научный союз», получивший кличку «Тугендбунд», т.е. Союз добродетели[6 - Это была довольно невинная конспирация чиновников с участием принцев под негласной опекой прусской королевы.]. Для Клаузевица цели Тугендбунда являлись слишком мелкими и умеренными, и он отказался войти в него. После того как по требованию Наполеона Штейн был удален из правительства, а прусский король, наткнувшись на сопротивление сторонников борьбы с Наполеоном, начал подозрительно относиться ко всем конспираторам, Тугендбунд развалился. Он просуществовал всего два года. Воздержался от вступления в это общество и Шарнхорст, что не помешало молве сделать из него самого страшного подпольщика Тугендбунда. Правда, чтобы контролировать действия офицерской молодежи, Шарнхорст провел на руководящий пост директора подпольного «военного института» своего друга и помощника Бойена[7 - Тугендбунд имел и особую военную секцию – «Военный институт» – нечто вроде тайного Военно-научного общества, в котором числилось вначале 38 молодых офицеров.].
В это время возник также радикальный кружок реформы, собравшийся около Шарнхорста, в который входил и кумир немецкой патриотической буржуазии – Гнейзенау.
Стоявший во главе реформы армии Шарнхорст исходил из убеждения, что ни одна политическая форма, в том числе и предложенная им реорганизация не имеет абсолютной ценности. То, что является духом, т.е. содержанием, выше формы. Дороже всего Шарнхорст ценил признание, что реформа открывает широкую дорогу для выявления национальных достоинств. «В новых порядках нельзя рассматривать отдельных вопросов вне связи с целым. Поднять дух армии, теснее связать армию и народ и указать им направление к их величайшим целям – вот система, лежащая в основе новых порядков».
Когда реформаторская деятельность Шарнхорста оказалась в 1808 году заторможенной увольнением стоявшего во главе кабинета министров Штейна, очень авторитетный, но реакционный прусский генерал Йорк от души одобрил французское вмешательство во внутренние дела Пруссии: «Слава богу, одна безумная башка (Штейн) раздавлена, теперь другая ехидная гадина (Шарнхорст) захлебнется собственным ядом».
В кружке реформы Клаузевиц, перед которым стояла цель – освобождение Германии, получил прозвище «Безусловный». Среди этих талантливых людей – Гнейзенау, Грольмана, Бойена – Клаузевиц быстро занял видное положение, благодаря своему уму и своим определенным взглядам, а также потому, что он являлся наиболее близким другом и доверенным признанного вождя кружка – Шарнхорста.
Г-жа Бегелен, кокетничавшая с Гнейзенау, так описывает часть этого кружка в его героические дни начала освободительной войны (1813): «Гнейзенау выглядит индюком. Клаузевиц имеет на него решительное влияние и представляется мне как вождь партии. Он честолюбив и благоразумен. Мне представляется, что он домогается личного благополучия и скрывает это под маской защиты общих интересов. Самый темпераментный – Грольман». В этой злой характеристике, приписывающей Клаузевицу совершенно несвойственные ему карьеризм и лицемерие, интересно лишь признание чрезвычайно авторитетного положения Клаузевица в кружке передовых людей Пруссии.
При способностях Клаузевица и крупном положении среди людей, взявшихся за переделку прусской армии, следовало бы ожидать значительного его участия в деле реформы. Ведь он был ближайшим сподвижником Шарнхорста, проводившего в эти годы перестройку вербованных войск старого порядка в современную армию, основанную на коротких сроках службы и всеобщей воинской повинности. Какое богатство вопросов, связанных с наилучшей подготовкой к войне этого «вооруженного народа», должно было представляться Клаузевицу! Однако надо признать, что участие Клаузевица в реформе было чисто формальное. Он явно тяготился им. Эта работа казалась ему слишком мелочной и слишком далекой от поглощавшей его цели – разгрома французов.
Клаузевиц являлся сторонником немедленного выступления для использования того напряжения, которое охватило всю Европу во второй половине года при известиях о поражениях французских войск в Испании и Португалии. Обширная же работа по военной реформе, которая должна была сказаться только через несколько лет, отвлекала внимание от использования благоприятного момента, когда и Австрия зашевелилась и начала вооружаться на борьбу с Наполеоном. Притом Клаузевиц никогда не проявлял интереса к подготовке вооруженных сил, а только к их расходованию. Эта подготовительная работа была тесно связана с внутренней политикой, с борьбой против феодальных пережитков, с новой расстановкой в военных вопросах классовых сил дворянства и буржуазии; все эти вопросы живо волновали Шарнхорста, но оставляли равнодушным Клаузевица, который в политике проявлял крайнюю умеренность взглядов и совершенно чужд был какому-либо радикализму. Если в области стратегических планов Клаузевиц представлял наиболее решительные и новые взгляды, то в работе над реформой армии он оказывался наиболее умеренным и консервативным из всего кружка, что и дало повод г-же Бегелен признать его благоразумие.
Когда Клаузевиц перешел с адъютантской службы на службу к Шарнхорсту, он писал Марии: «Работа мне кажется теперь такой легкой! Я как будто вышел из холодной могилы и в хороший весенний день вернулся к жизни!» Сердечные отношения с Шарнхорстом не нарушались. Последний признавал, что доклады Клаузевица являлись для него отдыхом. Клаузевиц по движению лица Шарнхорста уже догадывался о его резолюции и умел тотчас же совершенно точно облечь его взгляды в соответственные выражения. Общение с Шарнхорстом вливало в Клаузевица новые силы и вызывало в его мрачном настроении светлые проблески.
Вот как он описывает один из них в письме к Марии от 25 апреля 1808 года: «Вчера я стоял на мосту, переброшенном через величественный Прегель, там, где кончается кенигсбергский порт. Углубленный в свои мысли, я смотрел на течение воды. Внезапно я почувствовал себя очнувшимся под влиянием разнообразия впечатлений, теснившихся во мне со всех сторон, и мой несколько возбужденный мозг был поражен множеством различных явлений, которые без моего ведома скользили мимо меня. Я находился в наиболее богатой и оживленной части Кенигсберга. Было воскресенье, и вечерний воздух впервые наполнился благоуханием весны. Все было в движении. По мосту катились коляски с нарядными женщинами, следовавшими на какое-то торжество. Проходили купцы, оживленно беседуя о своих капиталах, доверенных сомнительным волнам моря. Озабоченный государственный деятель проезжает в коляске через толпу, не замечая ни окружающую его толчею, ни ордена, блестящие на его груди и привлекающие взоры всех. На мосту сидит нищенка и изливает, напевая вполголоса, свои горести невнимательному слуху прохожих. Удовлетворенная мелодия одинокой флейты снисходит на воду с высоты балкона. Значительно больший авторитет чувствуется в гулком сигнале горна, который с высоты замковой башни слышен всему Кенигсбергу. Я не знаю, возможно ли этими штрихами восстановить картину, но человек, который одновременно воспринимает эти столь различные впечатления, чувствует, как они складываются в удивительное настроение».
Но, по существу, организационная работа не удовлетворяла Клаузевица. Важнейшие социальные сдвиги того времени были ему чужды. Когда Шарнхорст провел отмену телесных наказаний в армии, Клаузевицу было поручено поддержать это очень важное мероприятие в печати. «Ты можешь себе представить,– писал он Марии, – что на третьей статье я был уже сыт этим законом по горло». Этот недостаток энтузиазма Клаузевица к реформам выступает особенно ярко по сравнению с Гнейзенау, разразившимся громовой статьей «Свобода спины». Гнейзенау вспоминает о слове «свобода», которое раздается уже двадцать лет по Европе. Теперь дело идет о свободе в узком понимании – о свободе солдата от палочных ударов. Эта свобода является предвестницей классовых изменений в составе армии, установление ее является необходимой подготовкой для проведения всеобщей воинской повинности.
Расхождение в вопросах внутренней политики в кружке реформы смягчалось тем, что многие члены кружка, например Гнейзенау, считали все правительства государств, сохранявших еще старый порядок, обреченными. Но они стремились избежать больших потрясений и увещевали королей в необходимости «революции свыше». В конце 1809 года Клаузевиц, с беспокойством думая о революции, писал: «Я полагаю, что материал для смуты залегает повсюду очень глубоко и в большом количестве и вызовет еще явления совершенно другого порядка, чем виденные нами. Европе не уйти от крупной и всеобщей революции… Только те короли, которые поймут истинный смысл предстоящего преобразования и сами постараются его предупредить, смогут удержаться… Правда, в небольшом количестве имеются малодушные, которые стремятся удержать этот поток, первые капли которого уже оросили их одежду. Явления, вызываемые с безудержной мощью натиском эпохи, они склонны приписывать козням партии, тайного общества или даже отдельных лиц».
Кружок либеральных, весьма умеренных реформ и являлся в глазах реакционных помещичье-юнкерских кругов той партией, от которой шла вся революционная зараза. Самым злокозненным был, конечно, Шарнхорст, которого они считали английским шпионом. «Благонамеренные» установили за ним наблюдение и действительно открыли тайные сношения Шарнхорста с английским правительством через капитана торгового судна. Но здесь «благонамеренные» просчитались: они забыли, что основным двурушником был прусский король, явный союзник Наполеона, защитник континентальной системы, поддерживавший, однако, через Шарнхорста связи и с враждебной Англией. «Благонамеренным» пришлось извиниться и потушить скандал.
Несмотря на свою немногочисленность и отсутствие оформленной организации, кружок реформы являлся подлинной политической партией, объединенной на платформе внешней политики, устремленной на освобождение Германии из-под власти Наполеона. И поскольку эта партия ставила выше всего задачу объединения Германии, в ней нарастало критическое отношение к Пруссии и прусскому королю, стремившемуся обеспечить свои маленькие эгоистические интересы. Эта партия резко перешла в оппозицию в 1809 году, когда прусский король отказался поддержать Австрию, вступившую в войну с Наполеоном под общегерманскими лозунгами. «В моих глазах, – писал Штейн, – все династии одинаковы, они представляют только орудие». Клаузевиц сделал заметку: «Постоянные причитания Фридриха II о стремлении австрийской династии к универсальному господству представляют не что иное, как проявление эгоизма». В письме 23 апреля 1809 года он жестоко осуждает прусских офицеров, которые, опасаясь потерять насиженное местечко и предпочитая учебный плац полю сражения, не думают о том, чтобы бросить службу прусскому королю, и кричат о своей лояльности: «У них на языке все время звучит «пруссаки», чтобы слово «немцы» не напоминало им о более трудном и священном долге».
В 1809 году ближайшей задачей военной партии являлась помощь Австрии, которая объявила войну Наполеону. Ближайший сподвижник Гнейзенау по защите Кольберга, майор Шиль, командовавший в Берлине гусарским полком, начал на свой страх со своим полком войну с Наполеоном. Прусский король квалифицировал поступок Шиля как коллективное дезертирство целого полка. По требованию Наполеона прусский военный суд судил и приговорил к расстрелу Шиля и его ближайших помощников, взятых в плен. Клаузевиц и его друзья восторгались Шилем, хотя и осуждали его за неорганизованность выступления. «Смерть Шиля огорчает меня, как потеря самого дорогого брата», – писал Клаузевиц.
Самый даровитый в военном отношении и темпераментный член кружка, будущий начальник прусского Генерального штаба Грольман перешел на австрийскую службу. Просьба к прусскому королю об увольнении была выражена Грольманом в следующей форме: «Какая польза будет вашему величеству, если вы задержите меня силой? Вы уничтожите свободного человека, который сражается за ваше дело, и сохраните раздавленного раба, который с внутренней злобой будет относиться к государству, воспрепятствовавшему выполнению его священного долга». Когда Австрия заключила мир с Наполеоном, Грольман переехал сражаться против Франции в Испанию, там был взят в плен, но бежал из Франции в Пруссию.
Клаузевиц полностью поддерживал Грольмана и собирался следовать по тому же пути. Его задержала неудавшаяся попытка, сделанная им совместно с Гнейзенау, организовать коллективный уход из прусской армии в виде создания особого немецкого легиона, который должна была взять на свое содержание Англия и который сражался бы вместе с австрийской армией на самых ответственных участках. Просьба Клаузевица к австрийскому военному уполномоченному в Кенигсберге о переводе в австрийские войска уже запоздала.
Любопытно отношение Марии к предложению Клаузевица перейти на австрийскую службу, что должно было отдалить или даже поставить под вопрос брак с ней. Мария мужественно писала Клаузевицу: «В своих планах на будущее не позволяй мыслям обо мне влиять на твое решение. Все, что я имею, это твоя любовь, но я никогда не прощу себе, если ты для меня из-за моих мнений или желаний принесешь какую-либо жертву, о которой впоследствии пожалеешь. Думай о себе и своей судьбе, а не о моей… Действуй, я выдержу».
Готовившийся перевод Клаузевица в австрийскую армию в 1809 году не состоялся из-за сражения под Ваграмом, после которого было заключено перемирие; оно привело к новому торжеству Наполеона. Вот как реагировала на эти события Мария, готовая на всякие личные жертвы: «Ты понимаешь, дорогой друг, что, получив это сообщение, я не была в состоянии даже взяться за перо, и сейчас еще оно дрожит в моих руках. Я была готова к новым проигранным сражениям, к повторению ошибок и злоупотреблений, но не к такому жалкому концу, когда светлое пламя, долженствовавшее осветить и согреть всю Германию, оказалось потушенным, как загоревшийся пук соломы. Правда, так быстро изменились настроения вождей, но не нации, но на что способна нация, предводимая такими вождями! Мое сознание теряется в этом хаосе несчастий и унижений, и мое сердце разрывается от представления о твоем горе, отчетливо рисующемся мне. Если бы я могла, дорогой и милый друг, создать тебе достойное бытие ценой счастливейших дней моей жизни, как охотно я бы это сделала для тебя!»
Любовь Марии являлась для Клаузевица «превентивной наградой за богатую подвигами жизнь». Под влиянием ее очарования у Клаузевица «ветви жизненного дерева вновь зазеленели». Без совершения подвига любовь Марии рисовалась Клаузевицу как «грабеж небес». Она являлась «весталкой, поддерживавшей в нем огонь жизни».
Клаузевиц тяжело переживал катастрофическое положение Пруссии, и когда он склонен был считать себя лишним человеком, Мария повела борьбу с его пессимизмом: «Усилия не пропадают даром: ты все же выигрываешь во внутренней силе и совершенстве». «Вообще я твердо убеждена, что жизнь порядочного человека никогда не проходит даром, даже если ему не представляется случая принести обществу определенную пользу. Само его бытие уже является благодеянием для общества, и никогда еще не было большей нужды в этом благодеянии, как в наше время, когда подлинная добродетель встречается так редко. Под влиянием трудностей времени и всемогущего влияния эгоизма, легкомыслия и властолюбия добродетель могла бы совершенно исчезнуть, если бы не продолжало существовать несколько честных, неподкупных и неизменных характеров, хранящих для будущего искры, из которых когда-нибудь разгорится светлое пламя». Пожалуй, для полного понимания переживаний Клаузевица и этого текста, относящегося к концу 1808 года, следует напомнить о том, что это был первый период подъема национально-освободительного движения.
Особенно сильны позиции партии реформы были в 1809 году, когда главной массой прусских войск, сосредоточенных в Померании, командовал Блюхер, вокруг которого создавались легенды, на которого друзья Шарнхорста могли смело положиться. Весь аппарат военного министерства был в руках Шарнхорста. «Король еще не смеет называть нас иначе как доброй партией», – писал Клаузевиц. Человеком «действия» в партии являлся Гнейзенау, с которым Клаузевиц очень близко сошелся летом 1808 года. Дружба между ними играла выдающуюся роль до конца жизни Клаузевица. Поэтому мы сделаем здесь небольшое отступление, чтобы познакомиться ближе с красочным образом этого героя освободительной войны.
Гнейзенау
Отцом Гнейзенау был веселый, беспутный и безродный техник, кочевавший в мирное время в поисках архитектурной работы из города в город, не имевший никогда ни копейки и устроившийся во время Семилетней войны на должность артиллерийского офицера в набранные без разбора имперские войска. Настоящая фамилия его была Нейтхардт. Осведомившись, что в Австрии проживают какие-то богатые Нейтхардты, имеющие очень красивое поместье Гнейзенау, он решил, что для артиллерийского офицера будет выглядеть солиднее, если он к своей фамилии присоединит «фон Гнейзенау».
При проезде через Вюрцбург Нейтхардт воспламенил сердце молоденькой девушки. Состоятельные родители, к тому же ярые католики, не хотели слышать о браке их дочери с каким-то проходимцем, бедняком и к тому же лютеранином. Девушка бежала от родителей и, не имея другого пристанища, следовала в повозке за артиллерийской частью, в которой служил муж. В этой повозке, за два дня до сражения под Торгау, в 1760 году родился наш герой. Охватывающий маневр Фридриха II вынудил обозы к быстрому ночному отступлению. Повозка молодой матери сломалась. Страдая от лихорадки, с ребенком на руках, она пересела на облучок военного фургона, бросив свой жалкий скарб. Ночью она уронила ребенка на дорогу, а к утру скончалась. Новорожденного подобрал обозный солдат. Отец, не найдя в обозе жены, отдал грудного младенца на воспитание в первую попавшуюся крестьянскую семью и забыл его на долгие годы.
Гнейзенау, вспоминая свое детство, говорил, что голода он не знал – у него всегда был кусок черного хлеба, но ноги его не имели никогда обуви. Главное его занятие было пасти гусей. Прошло около десяти лет, когда его разыскали и взяли к себе на воспитание дедушка и бабушка с материнской стороны. Внезапно он был перенесен в состоятельную буржуазную обстановку. Его воспитывали в иезуитской школе в Вюрцбурге, постоянно упрекая в том, что он крещен по лютеранскому обряду. До конца своей жизни Гнейзенау затруднялся определить, католик он или протестант, что нисколько не смущало его равнодушия.
От бабушки ему досталось небольшое наследство, которое он пропустил в один веселый год, поступив в Эрфуртский университет. Веселый, находчивый, красивый, очень красноречивый, Гнейзенау всегда и у всех пользовался успехом. Девушки отравлялись из-за Гнейзенау, мужчины дрались с ним на поединках: у Гнейзенау насчитывается в жизни до семи дуэлей, не считая полусерьезных студенческих. Деньги быстро таяли. Уже после одного года студенчества Гнейзенау был вынужден искать себе профессию.
В 19 лет он поступил в австрийский гусарский полк «кадетом», как называли в Австрии юнкеров, рассчитывая быстро сделать карьеру, так как Австрия находилась тогда в войне с Пруссией за баварское наследство. Но война закончилась почти тотчас же после поступления Гнейзенау на службу. Находясь в отпуске, Гнейзенау участвует в дуэли с печальным исходом, за которую ему могло достаться от военного начальства. Тогда, не соблюдая всех положенных формальностей, Гнейзенау раскланивается с австрийской армией и предлагает свои услуги, уже в качестве знакомого с военным делом молодого офицера, маркграфу Ансбах-Байрейтскому, одному из тех мелких немецких князьков, которым война Соединенных Штатов за независимость открыла новые источники дохода – поставку пушечного мяса Англии.
Гнейзенау принят на службу в егерский батальон и работает над своим военным образованием. Мы можем заключить о том, что он не был обыкновенным беспутным малым и что у него были более широкие интересы, по его сохранившемуся неплохому стихотворению 1781 года «На смерть Лессинга». Очередь отправления в Америку доходит до него только в 1782 году, к самому шапочному разбору; сражаться ему уже не пришлось, так как понесенные английской армией неудачи заставили Англию признать независимость Соединенных Штатов.
По возвращении в 1783 году Гнейзенау несколько лет служит в Байрейте, в пехотном полку, и завоевывает себе в небольшом городке всеобщие симпатии. По свидетельству Александра Гумбольдта, посетившего Байрейт в 1796 году, местные жители еще через десять лет после отъезда Гнейзенау с интересом вспоминали о нем.
Но служба в маленьком гарнизоне не удовлетворяет Гнейзенау, несравненно более образованного, чем его товарищи; он изучает науки, требующиеся для военного инженера и офицера Генерального штаба, и обращается к Фридриху II, приступившему к формированию королевской свиты по генерал-квартирмейстерской части, с предложением своих услуг. Фридрих II соглашается и предлагает ему явиться в Берлин. Но Гнейзенау, уволившийся из ансбахских войск, не понравился Фридриху II при личном представлении; Фридрих II обладал удивительной способностью браковать каждого сколько-нибудь талантливого человека. Прусский король обманул Гнейзенау и принял его в прусскую армию, но не в Генеральный штаб, а младшим офицером в пехотный полк, расположенный в глухом силезском гарнизоне.
С 1786 года Гнейзенау на 20 лет погряз в скромном существовании маленького гарнизона. В Силезии Гнейзенау женился – так же молниеносно, как делал все в жизни. Его приятель, жених «хорошенькой Котвиц», бойкой помещичьей дочки, был убит на дуэли, и на Гнейзенау, бывшего секундантом, выпал тяжелый долг сообщить невесте это горестное известие. «Хорошенькая Котвиц» пришла в такое отчаяние, что Гнейзенау почувствовал необходимость утешить ее и, не зная ни в чем предела, тут же предложил ей свою руку и сердце.
К моменту катастрофы прусского государства 46-летний Гнейзенау дослужился уже до чина капитана, командовал батальоном, имел пятерых детей и ожидал рождения шестого, читал агрономические труды и деятельно управлял небольшим имением жены.
С этого времени начинается резкий сдвиг в развитии Гнейзенау. Суждения его в начале кампании 1806 года, в противоположность высказываниям Клаузевица, отличались большой зрелостью. Летом 1806 года он записал: «У нас господствует большое недовольство миром. Справедливо ли? Это большой вопрос. Кто бы мог сказать, какой ход приняли бы события при противоположной политике?» Мобилизация вызвала у него замечание: «Поздно, быть может, не слишком поздно». Перед самой катастрофой он писал: «Со стороны я вздыхаю. Много времени упущено, занимались мелочами, давали представления публике, а весьма серьезное дело – подготовку к войне – забыли. Дух офицеров превосходен, на этом можно строить большие надежды, но… Что будут делать французы дальше, я знаю. Но что я буду сам делать, мне неизвестно. Я отчетливо представляю наступление французов вдоль реки Заалы. Но я сижу в низших чинах, и мое слово не имеет цены. У меня щемит сердце, когда я представляю себе последствия. Отечество, избранное мною отечество! Я забыт в своем маленьком гарнизоне и лично могу только драться, но не советовать».
Гнейзенау участвовал в первом же бою этой кампании, под Заальфельдом. При отступлении, прикрывая батарею, батальон Гнейзенау сражался не по уставу – не в сомкнутом развернутом строю, а по-новому – весь рассыпанный в цепь против французских стрелков. Это свидетельствует, что поездка Гнейзенау в Америку не пропала даром, и он не только усвоил американские передовые взгляды на тактику пехотного боя, но и соответственно подготовил свой батальон, забежав совершенно самостоятельно далеко вперед устава.
В бою под Заальфельдом Гнейзенау был ранен и должен был сдать командование батальоном. Уехать для лечения в тыл ему не удалось – катастрофа застигла его раньше. Раненый Гнейзенау в день сражения под Йеной и при отступлении выполняет обязанности офицера Генерального штаба при штабе армии.
В конечном счете посланный для связи из одной колонны в другую, он прибывает в то время, когда эта колонна уже сдалась французам. Возвращается обратно – там армия тоже сдается. Гнейзенау остается одиноким и без средств на территории, занятой французами. А вдали, в Восточной Пруссии, сопротивление при помощи союзников – русских войск – продолжается. Гнейзенау пытается пробраться в Кенигсберг через шведскую Померанию, но шведская пограничная охрана имеет приказание никого не пропускать. Узнав, что шведские пограничники арестовывают французских шпионов, Гнейзенау прибегает к последнему средству: он подходит к шведским пограничникам и так искусно выполняет роль французского шпиона, что шведы немедленно арестовывают его и доставляют своему высшему командованию. На допросе у шведского генерала Гнейзенау сознается, что сознательно обманул пограничников, и шведы дают ему возможность морем пробраться в Кенигсберг.
В Кенигсберге подвиги и приключения Гнейзенау были награждены чином майора, но он не понравился прусскому королю. В небольшом корпусе, уцелевшем из всей прусской армии, все вакансии оказались занятыми, и Гнейзенау был назначен командовать запасным батальоном. Его просьба – дать возможность сформировать партизанский отряд – была отклонена. Но судьба, систематически мешавшая Клаузевицу выделиться, избрала Гнейзенау своим баловнем.
Наиболее патриотичной в Пруссии была буржуазия небольшого города – крепости Кольберга, многократно выдержавшего в XVIII веке осаду шведов и русских. Сдача шести больших прусских крепостей их комендантами заставила вождей кольбергской буржуазии проявлять особую бдительность по отношению к своему коменданту, старому полковнику фон Лукаду, не пользовавшемуся доверием. Когда же у коменданта крепости произошло столкновение с капитаном Шилем, организовавшим из Кольберга партизанские действия на тылах французов, и комендант приказал арестовать Шиля, по городу разнеслась весть о том, что комендант подготовляет измену: начался бунт. Депутация горожан требовала у прусского короля дать им другого, надежного коменданта. Необходимость удовлетворить строптивых буржуа заставила короля обсудить этот вопрос со своими министрами. Бейме, один из влиятельных гражданских статс-секретарей, заявил, что встретил только что на лестнице незнакомого майора, который ему кажется очень подходящим для горячего поста коменданта Кольберга. Так состоялось назначение Гнейзенау.