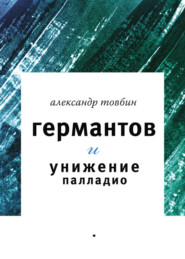По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка в подтаявшем льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Повесился! Молодой, приветливый парень и… Бабушка вернулась из магазина, а он в петле, бабушка – в обморок и не очнулась, когда соседи спохватились…
– Из-за чего повесился? – невежливо перебил Соснин.
– Говорят, несчастная любовь.
Мать быстро подошла к репродуктору, прибавила громкость – Женечкин вальс играют, сжимается сердце.
однажды
(на углу Большой Московской и Малой Московской)
Соснин и не пытался бороться с дурной привычкой, заглядывал в чужие окна – любопытство перешибало чувство неловкости.
Удивительно ли, что тусклым вечерком, незадолго до всех этих смертельных исходов, засмотрелся в подвальное окошко со сдвинутой занавеской, где, как в кинокадре, восседал на собственной железной кровати Шишка? Низко свисала голая загаженная мухами лампочка… хм, восседавшего… устрашающий обрубок на сером байковом одеяле, опухший посинелый обрубок в тельняшке…
Как на кровать взбирался? Кто-нибудь помогал?
Шишку окружали сокровища, – одеяло было завалено смятыми купюрами, серебром, медяками, – Шишка привычно и ловко сортировал дневную добычу, вырастали две бумажных кучки и…
Сбоку, из-за складок марлевой занавески в кадр протянулась рука с початой бутылкой водки; на три четверти наполнился гранёный стакан.
Шишка залпом выпил.
А вот компаньон-помощник целиком, в милицейском кителе!
Участковый Валька деловито рассовал по карманам деньги из причитавшейся ему кучки, попрощался с Шишкой.
пора, пора
– Серёжа, может быть, отвезёшь нас, столько вещей… – приступая к ежевечерней пилке, мать не очень-то надеялась на успех. Собирались в обратную дорогу, а отец оставался: больных детей в санаториях лечили круглогодично. Отец появлялся в Ленинграде всего два-три раза за зиму – мог нагрянуть на конференцию ортопедов, которую под улыбающимся в усы портретом помпезно, с графинами на кумачовом столе президиума, проводил Соркин, или же на Новый год, в короткий, короче школьных каникул, отпуск… Хотя – напомним – мысленно и в отпуске не покидал своих пациентов, подъём сил и бодрость он исключительно обретал во врачебных заботах, когда один оставался в осенне-зимнем Крыму, проводив, наконец, семейство.
Пора, давно пора, погода безнадёжно испортилась, да и мать хотела вернуться до начала горячки в школьном родительском комитете, на носу был осенний шефский концерт, совпадавший со встречей выпускников.
Однако отъезд требовал долгой подготовки, упаковки, особенно тщательно следовало перевязать картонные коробки со стеклянными банками абрикосового варенья; припасались и старые наволочки для покупки на обратном пути, в Понырях, краснощёких яблок. Что касалось задержки… дабы узаконить Илюшино опоздание на месяц, иногда и на полтора, мать заранее, до каникул, обговаривала задержку с учителями, ссылалась на хронический недуг носоглотки сына, который угрожал гайморитом, если… – даже великий клиницист Соркин не догадался об аллергическом происхождении сезонного насморка – если столь уязвимую носоглотку раньше прописанного срока лишить целебной солоноватости морских бризов. Разумеется, об отставании от учебной программы не было речи – Илюша брал уроки в школе при санатории, в ней занимались, лёжа в белых кроватях, больные, загипсованные дети.
– Может быть, почитаешь?
– Что?
– Лев Яковлевич не посоветовал?
Соснин молчал, увлёкся настырной каплей, которая, набирая скорость, скатывалась зигзагами, расталкивая другие капли.
– Вот, чудесная книжка, – мать полистала «Серебряные коньки», – папа взял в санаторской библиотеке; чудесная книжка, специально для прикованных к кроватям детей, – подумал Соснин.
Домино, домино – неутомимо подгонял пёструю многолюдную карусель Глеб Романов, кружились, кружились, как заведённые, звенел каток на Масляном лугу. Соснин на стареньких, но хорошо заточенных бегашах раскатисто шёл по прямой, уверенно, резко наклонившись, заложив одну руку за спину, другой энергично взмахивая, уходил в вираж, ему, в отличие от Шанского с Бухтиным, которые катались на обычных «спотыкачках-хоккейках», удавались сильные шаги-перебежки; Бызов был хорош на «канадках», массивный, мощный, а такая лёгкость, ловкость… Угодив лезвием в присыпанную снегом выбоину, Соснин упал, сломал руку, месяц проходил с гипсом, не мог писать, рисовать… рукой не повернуть, болела. Пока с ботинками-коньками, связанными шнурками и накинутыми на шею, бежал в дымящейся морозной темени к трамвайному кольцу через скользкий Елагин мост, Глеба Романова сменила на посту вокального сопровождения Эльфрида Пакуль.
– Да, Серова и Целиковская изумительны! – соглашалась, взяв телефонную трубку, мать.
Сорвалась капля… обидный стишок принёс в школу Шанский в тот самый день, когда сняли гипс. Якобы стишок Симонов заготовил впрок, для эпитафии на могильном камне – «здесь спит Серова Валентина, моя и многих верная жена, храни Господь её незримо, она впервые спит одна»… нет, нет, это не о ней… из старого военного фильма испуганно выглянули широко раскрытые влажные глаза; зазвучал тонкий детский жалобный голосок… понапрасну её не тревожь, только в сердце мельком…
И вновь наступала весна… самурай, землю нашу всю назад отдай, а не то святой Микадо… и всё громче неслись с асфальтового дна детские голоса: море волнуется раз, море волнуется два…
Ещё одна ртутная капля извилисто заскользила по стеклу, сорвалась.
– Илюша, о чём опять задумался? Не отвлекайся, смотри в книгу, не в окно… Или порисуй. Вазу хотя бы, ту, гипсовую, на террасе, её видно из окна. Хорошо, пока дождь, поставь себе натюрморт, возьми медный таз… пора об институте задуматься, годы незаметно пролетят и…
Осторожно избегая подробностей, мать назидательно упоминала давнюю усидчивость Ильи Марковича – путешествуя по Италии, не попусту глазел на красоты, вёл записи. Слава богам, исчезли те записи, – молча радовался Соснин, – стали бы семейной реликвией, сдували бы с них пылинки, заставляли заучивать наизусть… Воодушевляясь, мать, однако, нащупывала более актуальный пример – неужели не хочется подражать Валерию? Вот кого ждёт золотая медаль! Что говорить, талант – вздыхала, добавляла чуть ли не с оттенком сомнения, как-то безадресно, ища поддержки то ли у собственной мечты, то ли у развороченных чемоданов – как всё-таки много даёт ребёнку семья.
трагедия
из
параллельного
сюжета
Именно в те дни, когда Соснин, заждавшись отъезда, торчал у слезливого окна виллы, во внутренней тюрьме Большого Дома умер – якобы от сердечной недостаточности; сердце не выдержало допросов, пыток? – великий филолог-формалист Бухтин-Гаковский, отец Валерки.
наутро
(после приезда)
– И с чего это евреи все шибко умные? Воображают, задирают носы, каждый строит из себя царя Соломона… – занимал очередь в уборную Литьев.
хорошие и плохие
новости
Раиса Исааковна тоже замечательно отдохнула – её наградили профсоюзной путёвкой в Сочи. Пышущая жаром, обгоревшая так, что и пудриться было бесполезно, сходу обрадовала: младшего Доброчестнова, вороватого и злобного Вовку, терроризировавшего двор и улицу, наконец-то скрутили в бараний рог, как вам нравится? – на Кузнечном рынке стервец пытался украсть портмоне с зарплатой… Вовку в зарешечённом вагоне отвезли искупать вину в удмуртскую исправительную колонию, пока ему вправляли мозги, двор наслаждался долгожданным покоем. Правда, окно Мирону Изральевичу опять разбили, не помогла решётка… И ещё летом, выяснилось, скончался Георгий Алексеевич – допил четвертинку и упал на кухне, удар. Со слов Дуси, которую тронули душевные похороны Георгия Алексеевича, Раиса Исааковна поведала, что в вагонном депо, где прошёл трудовой век усопшего и откуда передовика производства проводили в последний путь, снимала кинохроника, играл духовой оркестр… Как орала Дуся на Георгия Алексеевича, когда тот щёлкнул выключателем у её двери, чтобы осветить…
Накануне Соснин встретился в Щербаковской бане с Шанским, узнал о смерти Валеркиного отца.
Толька Шанский,
«наш языкастый пострел-скорострел»
Если в классе ожидалась комиссия, – Льва Яковлевича обвиняли в пособничестве космополитам, комиссии зачастили на уроки литературы, – Шанский старательно заполнял из бутылочки чернильницы на дальней, отведённой для идейных надсмотрщиков, свободной парте, затем топил в чернильницах дохлых мух, которые, мумифицируясь, валялись между рамами больших окон.
А учителей Шанский подкалывал язвительными шуточками.
Типун на язык! – с плохо скрываемым восторгом вскри- кивала после очередного перла Шанского классная руководительница Агриппина Ивановна, тайно гордившаяся находчивостью и остроумием ученика, тогда как директор Кузьмичёв, преподаватель истории, Тольку едва терпел, а завуч Свидерский, хотя главным его врагом был Бухтин, и вовсе злобно слюною брызгал, грозил отчислить; грозил, но не находил убедительной для РОНО придирки – у Шанского была хорошая успеваемость.
С тёмными, расшвыривающими искры глазами, упругими щёчками, ярким подвижным ртом… При среднем росте – ладный, пропорциональный, округло-стройный, то, что называется – хорошо сложён… и – грациозный, словно прошёл балетную выучку; ко всему Шанский был наделён впрок врождённой телегеничностью, с раннего детства его отличали отточенные жесты – с каким изяществом поднимал руку, откидывал голову – картинка! Лишь причёску Шанского искажал милый природный изъян. Над лбом, чуть сбоку, ближе к левому виску, волосы эдаким веерком росли неукротимо вверх, только вверх, их никак, даже обильно смочив, не удавалось уложить, прижать к черепу. Ангел поцеловал в лобик… – улыбалась, ласково приглаживая непокорный Толькин вихор, Инна Петровна, мачеха Шанского, которая трогательно его любила. Валерка не соглашался, не ангел поцеловал, говорил, зализал телёнок, пока наш младенец сладко посапывал в коляске на дачном участке; безжалостный Бызов не терпел телячьих нежностей, заменил телёнка коровой… И искажала идеально-картинный лик Шанского скверная привычка жевать язык, пусть и посередине фразы – челюсти двигались, кончик языка дебильно меж губами болтался, правда, не беспомощно, скорее – задорно, иногда и злорадно, если не злобно, будто из языка его, как у змеи, торчало ядовитое жало, порой казалось, Шанский всего-то язык показывал, издевался, а язык от жевания распухал, заполнял рот, как кляп – Толька жевал, жевал и вдруг язык снова обретал нормальные габариты, как если бы осаживалось взошедшее дрожжевое тесто. Позже Валерка прочёл у Пяста, выловленного в отцовской библиотеке, про обезображенную тиком и отвратной гримасой с высовыванием языка речь Бердяева, оратора хоть куда, но – строго сказал Валерка – сравнение для Шанского чересчур лестное; позже подметили, что жевание языка было вполне метафорической привычкой, Шанский будто бы давился словами… и чёрт-те кто тянул за язык, за его – смеялся Бызов – главный орган жизнедеятельности… Наш языкастый пострел – со счастливым недоумением – как, как такое возможно?! – выдохнул после памятной немой сцены Лев Яковлевич, а Нонну Андреевну с минуту сотрясал смех, придя в себя, натянула смущённую маску, педагогично выдавила: уши вянут.
Лев Яковлевич обожал народное искусство, фольклор, он, благодарный ученик Проппа, оснащал свои уроки и просветительские рассказы пословицами, поговорками, загадками… и угораздило неосторожно спросить: мальчики, ну-ка, подумайте, кто отгадает? – «без рук, без ног на бабу скок» – это… Шанский, не задумываясь, вместо ожидавшегося «коромысла» выпалил – инвалид.
Скок!… – промелькнула роковая затравка любовной сцены между покойными Шишкой и Вилой-Виолой. Нет, руки у Шишки были. Сильнющие, цепкие, разгонявшие день за днём грохочущую тележку.