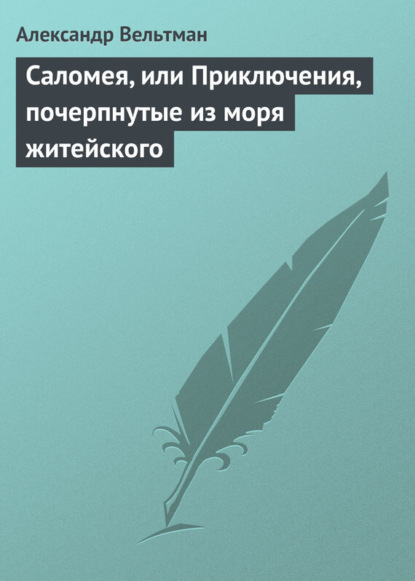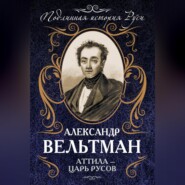По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Саломея, или Приключения, почерпнутые из моря житейского
Автор
Год написания книги
1848
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Есть чем восхищаться! Что ж тут такого особенного?
– Море и сочувствие тому, кто его написал – и больше ничего, – отвечал Рамирский.
– Где ж мне сочувствовать! – произнесла с оскорбленным чувством Софи. – Если б вы видели ту, которая писала это, вы, верно, забыли бы все от восторга и сочувствия.
– Без сомнения, – проговорил Рамирский колко. – Во всяком случае, надо было тонуть и в море и в глубине души своей, чтобы так написать!
– Очень жаль, что не могу представить вам сочинительницу! – сказала с язвительной усмешкой и резким голосом Софи, отходя от стола.
– Скажите, пожалуйста, кто она такая? – спросил Рамирский, не обращая внимания на колкость замечания.
– Не хотите ли вы искать ее? – спросила вместо ответа Софи.
– Непременно!
– Желаю благополучного пути и сожалею, что не могу дать вам ее адреса!
Эти слова потрясли до основания Рамирского. Прикусив губу, он перебросил несколько листов, взглянул на одни стишки и начал читать вслух:
Я не люблю своей свободы,
Своей сердечной пустоты!
Я не люблю красот природы.
Что ж я люблю? Поймешь ли ты,
Что я люблю?
Люблю блистательные взоры,
Живые, полные огня,
Когда они, как метеоры,
Вдруг с неба канут на меня,
Люблю, люблю…
Тебя, – любовь… ты приголубишь
Мои надежды, мне легко,
Когда мне молвят на ушко:
Мой милый друг, меня ты любишь?
Люблю, люблю!..
– Это очень, очень мило написано! С каким чувством! Жаль, что также без подписи… Позвольте узнать: это также писала какая-нибудь дама?
– Нет, не дама; это писал один очаровательный молодой человек! – отвечала Софи резко.
– Чудный акростих: «Я люблю тебя – ты меня любишь», – как трудно было отыскать ключ к нему! Бесподобный акростих!
– Вы смеетесь над моим альбомом! – вспыльчиво вскрикнула Софи и, подбежав, вырвала альбом из рук Рамирского и скрылась.
Рамирский затянулся глубоким вздохом и пыхнул, как добрый турок, затянувшись табаком.
В это время преферанс кончился, гости стали собираться домой. Девушки побежали надеть шляпки в комнату Софи, а между тем Надина подошла к Рамирскому.
– Какой акростих нашли вы в альбоме Софи? Верно: «Я люблю тебя, – ты меня любишь?» Хм! это написал ей один поэт в Москве, с которым она познакомилась на водах.
«Предательница!» – подумал Рамирский. – А не знаете ли, кто написал «Море»?
– Nadine[263 - Надя (франц.).], – раздался голос матери.
– Сейчас! – отвечала она. – Куда ж вы?
– Пора.
– Что ж вы это уезжаете, не, простясь с Софи?
– Я уж простился с нею! – произнес довольно значительно Рамирский.
III
В тот же вечер, возвратясь в свое поместье, которое лежало в четырех верстах от имения отца Софи, Рамирский приказал, чтоб к утру все было уложено в дорогу. В тревожном состоянии духа проходил он почти до рассвета по комнате; сжег с сотню лучших гаванских сигар, – все до одной скверно курятся; тяжкие думы перепортили их: иная вдруг высохла до того, что рассыпалась в руках и прогорела сбоку; другая вдруг отсырела, разбухла и вместо дыму коптилась угаром. Рамирский швырнул последнюю на пол, бросился на диван, потер лоб, но сон не ведет дружбы с беспокойной душою.
– Море, море! ты меня образумило! – вскричал, наконец, как будто надумавшись вдоволь, Рамирский. – Сковать себя с первой встречной девушкой, для того только, что вздумалось жениться!.. Не сказать самому себе: «Возьми ее, да будет ли она твоя?… Сядь с ней в один корабль, да попутна ли ее душа с твоей?…» Нет, прощай, Софи! прощайте маленькие семена капризов, вспышек, досад, ссор, равнодушия, холодности и всех противных ветров, бурь и, хуже всего, затишья посреди пучины!..
Ночь проведена тревожно; наступило утро; дворецкий пришел с пошлым вопросом:
– Не прикажете ли взять чего-нибудь съестного на дорогу?
– Куда ж я еду? – спросил сам себя Рамирский. – В Москву? Что я буду там делать? Разве искать от скуки сочинительницу «Моря»?…
– Так как же изволите приказать? – повторил дворецкий.
– Ничего не нужно! – крикнул Рамирский.
И через час он уже был на дороге к Москве с грустным чувством, что не несется по синему бурному морю на всех парусах, что пенистые волны не обдают его и не прохлаждают томящего его душу жара.
Приехав перед сумерками в гостиницу «Лондон», Рамирский послал человека занять номер; но долго дожидаясь его, с нетерпением выскочил из коляски и пошел сам.
Посланный слуга, сроду не бывавший в Москве, вошел в сени и, не видя никого, пробрался на лестницу и отворил двери.
– Кого тебе нужно? – спросил его, выходя навстречу, какой-то динер[264 - Слуга (нем.).] с отвислой губой, в широкой куртке.
Человек, никогда не видавший немцев, сказал бы, что это немец.
– Где тут квартера Федора Павловича Рамирского?
– Какой Павлович? Нет тут Павлович! Ступай, ступай! Ты видишь, господин барин идет.
Из нумера вышел какой-то барин. Покрой, чистота, лоск, блеск, белизна одежды его, журнальная обстановка, взгляд, движения, все являло в нем человека рафинированного, имеющего вес, перед которым отступает челядь.
– Да ведь тут же должна быть квартера… – начал было слуга Рамирского.
– Что такое? – спросил барин.