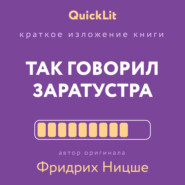По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Как начать разбираться в искусстве. Язык художника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1914
На мандельштамовской луне все предметы круглые: жители плетут корзинки, едят не хлеб, а вафли, и живут в голубятнях, дорог нет и можно только прыгать, а рыбы летают вокруг луны. Источником фантазии для изображений лунной жизни обычно служили тамошние кратеры, «цирки», внушавшие мысль, что все на Луне движется не по прямой, а по кругу, тем паче, что и луна кружит голову, а круговое движение всех планет сразу и не поймешь с земли. У Мандельштама круглые предметы и необходимость движения по касательной делают данное стихотворение важным дополнением к «Царскому Селу» в качестве критики самого описательного принципа ради открытия новых возможностей речи. Мандельштам критикует привычную иллюстративность, настаивая на более радикальном видении поэтической реальности.
В стихотворении «Царское Село» действие происходит зимой, когда в этом городке двор не живет, но военная жизнь остается интенсивной. В поэтических строчках мы замечаем движение от дворца: разъезд охраны (которая в первой редакции стихотворения нарочито пренебрежительно и вопреки значению термина названа «уланами», а во второй редакции – «гусарами» в смысле кавалерии вообще) сменяется строевой подготовкой. После мы мысленно движемся в сторону станции мимо казенных квартир, а там уж на станцию прибывает военная инспекция, а завершается сюжет отъездом фрейлины, родственницы кого-то из самых влиятельных людей, на петербургскую (зимнюю) квартиру.
Таков мир вполне эксцентричный, лишенный собственного центра – государственной жизни двора. Зимнее Царское Село, в котором нет царя, не менее эксцентрично, лишено центра, чем луна с ее цирковыми кратерами и неизвестно куда уходящим рассудком, без царя в голове.
Жизнь Царского Села в обеих редакциях стихотворения – никогда не наблюдение происходящего. В первой редакции охрана увидена силой поэтических штампов, когда свобода ветрена, а юность улыбается, во второй же редакции об охране и ее образе жизни всё знают «мещанки». Как и у Рафаэля и Дельво, женщины оказываются на уровне глаз, тогда как недоумение о происходящем заполняет всю остальную композицию. Поэтизируется обыденная сцена жизни Царского села, излагаются общеизвестные черты жизни в этом городе, но сюрреалистическое недоумение от этого только усиливается.
Но так же и в первой строфе «Луны» в первой редакции даются сказочные штампы, приглашения сказочного героя в сказочный мир, а во второй редакции поэтизируется само разоблачение «небылиц»: если небылицы следуют жанровым условностям, то важно узнать, как устроены небылицы, а не само то, что рассказ будет недостоверен. Композиционная загадочная логика важнее содержания отдельных вещей, как в таких сценах ожидания исцеления, отстранения ради ожидания, как у Рафаэля и Дельво.
Во второй строфе дворцы даются через запятую после казарм и парков, как будто звучит речь экскурсовода или экзегета: вот здесь казарма, там парк, за ним дворец. Клочья ваты, снег на деревьях – образ глухоты, который только оттеняет тот простой факт, что речь идет не о зрительных, а о звуковых впечатлениях, как будто в состоянии лунатизма, когда безупречно куда-то влечет звук.
Также и на Луне все плетут корзинки из глухой соломы; но мы скорее слышим это, чем видим. Мы не осматриваем луну в поисках былинок, но сразу прислушиваемся к голосу экскурсовода-экзегета, как именно устроена луна, что представляет она собой как обжитой ландшафт. Иллюстрация преодолевает себя в голосе исцелений, как идеальная композиция Рафаэля тоже стремится взломать себя, стремясь разрешиться истинным исцелением.
В третьей строфе мы подглядываем в окна генеральских квартир, и вот уже появился романный принцип всеведения автора, или же сюрреалистического все-видения: никак иначе не объяснить, как можно было узнать, в каких казенных квартирах живут генералы. Мысль о том, как должны вести себя старожилы Царского Села, и последнее – «особняки – а не дома» – подчиняет наблюдение литературным обычаям, где значимые романные сюжеты должны развертываться именно в особняках. Но так же точно и в стихотворении о луне мы видим дома, которые не дома, а голубятни. Мы замечаем опрятность в полутьме, аккуратность дальнего плана, смысл которого еще предстоит раскрыть. Если во времена Патрици и Кампанеллы, о которых мы уже рассказали, удивление уступило место иллюстрации, то здесь, наоборот, иллюстрация отступает, чтобы мы увидели удивительную неиспорченность луны, неважно, с помощью какого инструмента зрения.
В четвертой строфе мы следим за жизнью вокзала, причем ясно, что кичливость командующего армией видна только встречающим, именно они переживают, что он сердит. «Не сомневаюсь – это князь» сказано именно потому, что реальное участие князя в сюжетах известно только участникам самих сюжетов, положения дел в армии внешний наблюдатель не знает. Мандельштам воспроизводит видение ситуаций глазами дикаря, как наиболее сильный нарративный (повествовательный) прием в европейском романе.
В «лунном» варианте мы тоже не можем знать, зачем лунные жители поливают песок, почему для этого требуется высокая лейка и как устроена луна как уже условный сад со скамейками, расчерченный столь же строго, как карта боевых действий. Следует напомнить, что регулярные сады в Европе начиная с замка Фредерико да Монтефельтро были связаны с идеей перспективы и военной просматриваемости будущего театра боевых действий, это были как нынешние компьютерные модели будущих войн.
Наконец, в пятой строфе готова развязка сюжета: придворная протекция или интрига, которую никто не только видеть не может, но и слух о которой всегда будет недостоверен. На «Луне» в обеих редакциях есть отсылка к царскосельским обычаям – к «жженке», лицейскому пуншу, или «летающим рыбам», то есть к образу Галатеи с ее «формулой пафоса» – развевающимся шлейфом (восходящим через Ренессанс к античному канону изображения) или же к образам царскосельских прудов, зеркальной глади, легко отражающей всё, смешивающей глубину вод и отражение неба. Так и у Рафаэля и Дельво подразумевается домашняя тайная беседа с учениками, как именно надо исцелять, – это и есть тот трепет узнавания, который приходит на смену неудачам учеников, попытке пользоваться готовыми инструментами речи и искусства.
Суточный круг
Есть одно стихотворение, которое многие из нас помнят с детства. Оно состоит из так быстро мелькающих картинок, что мы даже не можем сложить их в единую галерею:
Как мой садик свеж и зелен!
Распустилась в нем сирень;
От черемухи душистой
И от лип кудрявых тень…
Правда, нет в нем бледных лилий,
Горделивых георгин,
И лишь пестрые головки
Возвышает мак один,
Да подсолнечник у входа,
Словно верный часовой,
Сторожит себе дорожку,
Всю поросшую травой…
Но люблю я садик скромный:
Он душе моей милей
Городских садов унылых,
С тенью правильных аллей.
И весь день, в траве высокой
Лежа, слушать бы я рад,
Как заботливые пчелы
Вкруг черемухи жужжат.
Стихотворение А.Н. Плещеева наследует одновременно антологической эпиграмматической поэзии, в которой само появление цветов в скудном мире – чудо и парадокс, и «поэзии садов», практических рекомендаций по созданию правильного мира. Но трудовые советы оказываются советами по эмоциональному переживанию текущего отрезка года, а эпиграмматический парадокс оборачивается утверждением парадоксального режима дня.
Сад, сильно затененный, с сиренью, черемухой и липой, описан в момент, когда сирень начинает цвести, черемуха уже отцветает, а липа еще не зацвела. В саду нет «бледных лилий», растущих в тени и символизирующих ночь, как гораздо сильнее пахнущие ночью, нет «горделивых георгин», равняющихся на солнце и поворачивающихся вслед за солнцем, как гвардейцы за королем Георгом, в честь которого и назван цветок.
Ночным растением оказывается мак с его одуряющим ночным запахом, а дневным растением – подсолнух, «словно верный часовой» частной жизни. Это те растения, которые трудно посадить в ряд, в отличие от лилий и георгин, и частная жизнь противопоставляется геометрии публичных садов. Но что означает эта параллель ночных и дневных растений, суровая антитеза, противостояние полюсов, как в классической эпиграмме, где интеллектуальная остроумная загадка оставалась бескомпромиссной?
Ключ к стихотворению в последней строфе: сирень и черемуха тоже оказываются разведены как ночное и дневное растение. Хотя и черемуху, и сирень опыляют разные насекомые, но здесь черемуха объявлена солнечной, дневной, и ее опыляют только пчелы, а не ночные насекомые, а сирень тогда будет ночной: пчелам она неинтересна, она опылится сама. Получается, что, кроме ностальгии по прошлому при печальном виде отцветающей черемухи в стихотворении заявлено, что день требует трудов, а не отдыха в городских унылых садах, тогда как ночная прохлада плодотворнее всего, мысль и вдохновение опыляют себя сами.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: