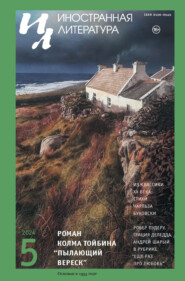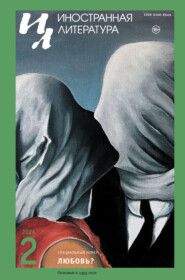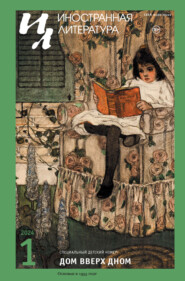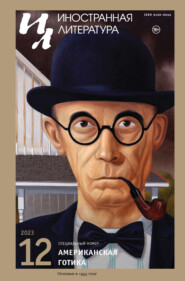По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вирджиния Вулф: «моменты бытия»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как и Салли – Клариссу, Мэдж подкупала Вирджинию смелостью и бесшабашностью. А еще – независимостью, совершенным безразличием к окружающим, «будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть». А еще – цельностью, благородством, «совершенно бескорыстным чувством, – напишет позже Вирджиния, – которое может связывать только женщин». «Только женщин»: нетрадиционные «однополые предпочтения», как видим, у нее уже намечаются.
Они переписывались, а когда встречались – болтали ночи напролет, говорили о жизни, о том, как они переделают мир. Мэдж поселила Вирджинию, поправлявшуюся после нервного срыва, у себя в доме при Гигглсуикской школе, где ее муж Уилл Воган был директором. Давала Вирджинии читать Уильяма Морриса, подруги собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, бороться за права женщин. Однако время развело прообраз и литературный образ: в отличие от своего прототипа, Салли Сетон с возрастом перебесится, выйдет замуж за богача, а не за скромного директора школы, и поселится в роскошном особняке под Манчестером, а не в скромной квартире при школе…
Выздоровление, хотя и не полное, наступило только осенью. Вирджинию еще мучили головные боли и кошмарные сны, но ей хотелось поскорей снова сесть за письменный стол, доказать всем, в том числе и самой себе, что «со мной всё в порядке, хотя уже тогда появился страх, что это не совсем так».
Да и мысли о покойном отце уже не были столь мучительны.
«О, моя Вайолет, – писала она в это время своей подруге и сиделке. – Если бы на свете был Бог, я бы поблагодарила Его за то, что он спас меня от страданий последних шести месяцев! Вы не можете вообразить, какую несказанную радость доставляет мне ныне каждая минута моей жизни, и я молюсь только о том, чтобы дожить до семидесяти. Очень надеюсь, что я вышла из болезни не такой самонадеянной и самолюбивой, какой была раньше, и что теперь чаяния других людей станут мне ближе и понятнее. Печаль, которую я испытываю сейчас в отношении отца, немного утихла, стала естественней, и жить теперь опять хочется, хотя жизнь и стала более тоскливой. Не могу передать Вам, чем Вы были для меня все это время, и если любовь хоть чего-то стоит, любить Вас я буду всегда».
Оправившись после болезни, Вирджиния в январе 1905 года вернулась в Лондон. Но не в родительский дом на Гайд-парк-гейт 22, где Стивены больше не жили, а в Блумсбери, куда братья и сестра, отправив совсем еще слабую Вирджинию в Кембридж, к тетке, сестре отца Кэролин-Эмилии, двумя месяцами раньше переехали – подальше от грустных воспоминаний. По возвращении Вирджиния чувствовала себя много лучше, хотя о полном выздоровлении еще не могло быть речи, что хорошо видно из письма Ванессы Мэдж Воган:
«Сейчас она вполне здорова, вот только спит неважно. Здорова и очень активна. Много гуляет, но уходить далеко и надолго ей нельзя. Утром, прежде чем сесть за письменный стол, она в течение получаса гуляет одна, а потом выходит еще раз, и тоже на полчаса, перед обедом. Во второй же половине дня одна она из дому не выходит, кто-то обязательно должен ее сопровождать… Спать она ложится очень рано, в остальном же ничем от нас не отличается».
Отличается, и очень. Слабое здоровье будет у нее всю жизнь, и страдать она будет не только от психических недугов, но и от телесных. Из хронологии жизни Вирджинии Вулф, дотошно составленной автором ее двухтомной биографии Квентином Беллом[13 - Bell, Quetntin. Virginia Woolf. A Biography. London, The Hogarth Press, 1972 (1st volume); 1976 (2nd volume).] – «по совместительству» ее племянником, сыном Ванессы, – следует, что не проходило и месяца, чтобы Вирджиния не слегла с головной болью, или не жаловалась на сердце, или не заболела тяжелым гриппом. Или же просто очень плохо себя чувствовала – настолько, что врачи, боясь рецидива психического срыва, предписывали ей долгий постельный режим, и она месяцами не садилась за рукописи и даже за свой любимый дневник, компенсируя отсутствие работы запойным чтением.
…Переехали Стивены гораздо дальше, чем им казалось. Перебравшись в Блумсбери, они, по существу, переселились из викторианской эпохи в эдвардианскую, – Вирджиния осознает это много позже:
«Когда мы с Ванессой стояли перед отцом, а он метал в нас громы, и мы, дрожа от страха, понимали, как он смешон, – это значило одно: мы смотрели на него глазами людей, которые видят что-то иное на горизонте. Видят то, о чем сегодня знает каждый юноша и каждая девушка в свои шестнадцать или восемнадцать лет. Злая ирония состояла в том, что наши мечты о будущем находились в полном подчинении у прошлого… По натуре мы с Ванессой – искательницы, революционерки, реформаторы, а мир, в котором мы жили, отставал от века по меньшей мере лет на пятьдесят…»[14 - «Зарисовка прошлого».]
Осенью 1904 года у младшего поколения Стивенов начиналась новая, независимая, самостоятельная жизнь. Теперь их мечты не находились «в подчинении у прошлого». Они больше не отставали от века – они опережали его.
Глава третья
Гордон-сквер 46
Дом, куда в октябре 1904 года переехали Стивены, Вирджинии, оказавшейся в нем лишь два с половиной месяца спустя, показался поначалу холодным, мрачным, неуютным. Постепенно, однако, как это обычно бывает, она ощутила и преимущества нового места жительства. Верно, в Блумсбери было гораздо больше шума, чем в «сельском» Кенсингтоне, зато было проведено электричество, да и места в доме на Гордон-сквер было куда больше. У Вирджинии была теперь своя большая комната на самом верху, «необычайно чистая и пустая», где она, переехав, целыми днями раскладывала книги, передвигала мебель, вставила в рамки и повесила на стену рукописи отца, а также письмо ему от Джордж Элиот и стихотворение Лоуэлла. В холле сёстры развесили портреты родителей кисти Уоттса, фотографии Теннисона, Мередита, Браунинга, которых снимала Маргарет Кэмерон.
Вирджиния обустраивала свое жилье и «осваивала территорию» – «исхаживала улицы» (“haunted streets”), как она это называла. Едва ли кто из известных английских писателей исходил Лондон так, как Вирджиния, – и в этом смысле она тоже дочь своего отца. «Больше всего на свете люблю смотреть по сторонам», – неизменно повторяла она. Смотреть по сторонам и размышлять – в городе это ей удавалось лучше, чем в сельской тиши.
«По сумрачным улицам Холборна и Блумсбери, – напишет она в дневнике лет десять спустя, – могу бродить часами. Везде смятение, разор, беготня… Только на оживленных улицах могу предаваться тому, что принято называть “мыслительным процессом”»[15 - Из дневников. Запись от 6 января 1915 года.].
Блумсбери в те годы никак нельзя было назвать лучшим местом в Лондоне, а Гордон-сквер 46 – лучшим местом в Блумсбери: Фицрой-сквер смотрелся элегантнее, Рассел-сквер, Мекленбург-сквер и Бедфорд-сквер – уютнее. И всё же Стивены сразу полюбили свой новый дом: у него, помимо отсутствия «скелетов в шкафу», было немало преимуществ, которые Вирджиния Вулф в «Старом Блумсбери» подробно описывает и для которых находит, как всегда, точные и в то же время неожиданные, поэтические образы:
«В конце 1904 года мне казалось, что лучшего, более прекрасного, более романтичного места не сыскать в целом свете. Начнем с потрясающей перемены: ты стоишь у окна гостиной и перед тобой деревья; у одного ветви заброшены вверх, а листья падают дождем вниз; у другого кора отливает после дождя, как шкура морского котика… После густого плюшевого сумрака Гайд-парк-гейт новое место поражало воздухом и светом. Предметы, которые ты никогда до этого толком не видел – картины Уоттса, голландское бюро, голубой фарфор, – впервые заиграли в гостиной на Гордон-сквер».
Имелись на новом месте преимущества и чисто практического свойства: помимо своих комнат у Ванессы и Вирджинии имелась также огромная гостиная, а на первом этаже еще и кабинет, предназначенный для обеих сестер, что для английской женщины конца викторианской эпохи считалось невиданной роскошью:
«Духовная свобода зависит от материальных вещей. Поэзия зависит от духовной свободы. Женщины же были нищими не только два последних столетия, а испокон веков. Они не имели даже той духовной свободы, какая была у сыновей афинских рабов. То есть у женщин не было никаких шансов стать поэтами. Почему я и придаю такой вес деньгам и своей комнате»[16 - Вулф В. «Своя комната» // Вулф В. Обыкновенный читатель / пер. с англ. Н.И.Рейнгольд. М.: Наука, 2012. (Литературные памятники).].
К практическим преимуществам можно отнести и дешевизну дома (относительную, естественно) – Блумсбери в те времена еще не котировался, не то что теперь, – а также его близость к художественному училищу Слейд-скул, которое Ванесса регулярно посещала.
Не обошлось, разумеется, и без недостатков. «Ватная» тишина на Гайд-парк-гейт сменилась несмолкаемым грохотом транспорта.
Дом на Гордон-сквер был отделан заново, это добавляло свежести. От красно-плюшевого и черного с золотом интерьера в духе Уоттса и венецианцев не осталось и следа: теперь вместо обоев Уильяма Морриса с витиеватым рисунком были чистые, выкрашенные темперой стены. Новому поколению требовались воздух, простота и свет – и всего этого на Гордон-сквер 46 было в достатке.
Новый дом означал новую жизнь.
«Мы встали на путь экспериментов и реформ, – цитирует Вирджинию ее племянник Квентин Белл. – Мы сказали себе, что впредь будем есть без салфеток, будем писать картины, сочинять книги, пить кофе после обеда вместо чая в девять вечера. У нас всё будет по-новому, у нас всё будет по-другому, мы встаем на путь испытаний…»
Образ жизни Стивенов и в самом деле изменился, и изменился радикально. Они теперь что ни день ходили по книжным магазинам, на вернисажи, в театр и на танцы. Не на приевшиеся чопорные балы и приемы, где надо было слушать прескучные разговоры, устраивать свою личную жизнь и стараться понравиться английской «княгине Марье Алексевне», – а именно на танцы. Танцевала, впрочем, кое-как научившись, лишь Ванесса, – Вирджиния же стеснялась, поэтому обычно усаживалась в уголок и читала, до чего никому не было дела. Викторианский этикет остался в прошлом: атласные платья и белые перчатки уступили место сигарете, велосипеду и французскому роману – имиджу «новой женщины» из модных в те годы «невротических» рассказов Джордж Эджертон. Распростились с викторианскими нравами и мужчины: «они тоже отстаивали свою “свободу” – носили тонкие шерстяные костюмы, рубашки с отложными воротничками, кичились чистокровной анархией чувств… в поведении высказывали нарочитую впечатлительность и ранимость»[17 - Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерлей. Перевод И.Багрова.]. Бывали Стивены, как и раньше, на концертах в Куинз-холл; Вирджиния, правда, музыку в молодости любила не слишком, уже гораздо позднее пристрастилась к бетховенским сонатам и квартетам, которые слушала дома на пластинках. Вот характерная запись в ее дневнике от 13 февраля 1915 года:
«Концерт был чудесный, но, слушая музыку, я решила (на концертах трудно не думать о чем-то постороннем), что все музыкальные творения ничего не стоят. Музыка истерична и говорит вещи, от которых потом становится стыдно».
Занимались и просветительской деятельностью: Вирджиния два года, с 1905-го по конец 1907-го, бесплатно преподавала в Морли-колледже на Ватерлоо-роуд, в вечерней школе для работающих мужчин и женщин. В то, что официанты, парикмахеры, портовые рабочие, даже самые, как теперь выражаются, «продвинутые», могут увлечься серьезными научными знаниями, не верили ни организаторы, ни нанятые преподаватели: Вирджинии предложили, совмещая просвещение и развлечение, рассказывать слушателям занимательные истории из прошлых веков, а также литературные сплетни, с чем Вирджиния прекрасно справлялась.
«Говорить могу сколько угодно, – писала она Вайолет Дикинсон. – И о чем угодно. Раз мисс Шипшэнкс уверена, что от меня будет толк, почему бы не попробовать? Завтра расскажу им про битву при Гастингсе – у них глаза на лоб полезут!»
Но ликбез Вирджинии довольно скоро наскучил: слушателей приходилось подолгу ждать, занимались они неохотно, предпочитали с лектором беседовать, задавать вопросы на отвлеченные темы. Вирджиния, чтобы их заинтересовать, должна была говорить не об английской литературе, а о Венеции, пересказывать древнегреческие мифы, рассказывать истории из жизни.
В этом «открытом университете» были задействованы и другие Стивены: Ванесса одно время – впрочем, недолгое – преподавала в Морли-колледж рисование, Тоби – латынь, Адриан – греческий. Дольше всех – до конца 1907 года – продержалась Вирджиния: людей, по преимуществу полуграмотных, она приохотила даже сочинять эссе о самих себе…
Гордон-сквер 46 знаменовал собой не только новое местожительство Стивенов, но и новое явление в тогдашней английской литературе – интеллектуальный дискуссионный клуб на дому. Не только район британской столицы, где располагаются Лондонский университет и Британский музей, но место встречи дружеского объединения кембриджских выпускников, молодых людей искусства и науки, усвоивших приоритеты этической доктрины философа Джорджа Эдуарда Мура: «удовольствие от человеческого общения и наслаждение прекрасными предметами». Удовольствие от человеческого общения ученики Мура получали, в основном, на «Рождественских вечерах» мэтра в Кембридже, а после окончания университета – в лондонских литературных салонах.
Наслаждались «прекрасными предметами», получая неизменное «удовольствие от человеческого общения», поначалу всего несколько человек, не считая, естественно, четверых Стивенов: двух братьев и двух сестер. Главным же инициатором четверговых дискуссионных «посиделок» на Гордон-сквер 46 был самый старший из Стивенов – Тоби, это его кембриджские друзья составили основу блумсберийского сообщества. Первый «четверг» состоялся 16 марта 1905 года. Гостей было всего четверо, и эта встреча Вирджинии запомнилась:
«Когда в дверь позвонили, нас с Ванессой буквально распирало от любопытства. Час был поздний; в гостиной висел дым; повсюду тарелки с печеньем, кофе, виски; на нас не было вечерних платьев из атласа и искусственно выращенного жемчуга – вообще никаких нарядов. Тоби пошел открывать, первым в гостиной появился Сидни-Тёрнер, за ним Белл, потом Стрэчи. Вошли бочком и скромно уселись на диваны, вжавшись в подушки. Сидели и молчали, не зная, как начать: привычные вежливые фразы были не к месту… Пробовали завести разговор, предлагали разные темы. Но все предложения гости отметали… Беседа едва тлела – подобное было бы невозможно в гостиной на Гайд-парк-гейт. И всё же молчание молчанию рознь: здесь молчали не от скуки – от работы мысли. Коль скоро планка интересных тем была поднята так высоко, то, казалось, нет необходимости снижать ее попусту. Все сидели, уставившись в пол, и тут Ванесса говорит, что была недавно на выставке живописи, и зачем-то вворачивает слово «прекрасное». Тут же один из молодых людей поднимает голову и замечает: “Всё зависит от того, что вы понимаете под прекрасным”. Все моментально напряглись, словно наконец-то на арену выпустили быка… Не помню, чтобы я когда-то с таким же вниманием следила за каждым шагом, за каждым поворотом в развернувшейся интеллектуальной корриде. Как старательно я налаживала свой маленький дротик и целилась, чтобы не промазать. А сколько было радости, когда твой ход засчитывали за весомый аргумент!»[18 - «Старый Блумсбери».]
А уже через неделю, 23-го, число гостей удвоилось, и за столом, оживленно споря и перебивая друг друга, засиделись до глубокой ночи. О чем только не говорили! И что такое «атмосфера в литературе». И как надо понимать «природу правды». И в чем состоит природа сексуальных отклонений – к слову, многим блумсберийцам присущих. И как доказать, что в картине, сонате, стихотворении есть «прекрасное». Говоря о литературе, об искусстве вообще, отдавали предпочтение не истине о человеке и мире, а «истинности видения», причем искусство рассматривали как чуть ли не единственную ценность в мире. Ратовали за расширение границ культуры, бросали вызов замкнутости, творческой и жизненной консервативности викторианского искусства, сокрушали авторитеты «материалистов», что думают не о духе, а о теле, и «тривиальное и преходящее выдают за правдивое и длительное». Принципиальные агностики, они выступали против моральных догм и религиозных запретов – ни того, ни другого для блумсберийцев не существовало. Принципиальные радикалы, они выступали против любых условностей, против любой власти, щеголяли не только модными галстуками, но и непримиримыми взглядами. Немного освоившись, о своей интимной жизни говорили с таким же жаром и искренностью, как о книгах и спектаклях. О чем свидетельствует нижеследующая сценка, подробно описанная в дневнике Вирджинии. Сценка, правда, из времени более позднего: когда Стивены, Вирджиния в первую очередь, близко сойдутся с Литтоном Стрэчи, а Ванесса Стивен выйдет замуж за нам еще не известного Клайва Белла:
«Весенний вечер. Мы с Ванессой сидим в гостиной… В любую минуту может войти Клайв, и мы с ним пустимся в спор – сначала дружеский, не переходя на личности, однако потом начнем бегать по комнате и наносить друг другу оскорбления. Ванесса же сидит молча и делает что-то таинственное с иголкой и ножницами. Я взволнованно, возбужденно рассуждаю о своих делах, о том, что касается меня одной. Тут дверь открывается, и на пороге возникает длинная, зловещая фигура мистера Литтона Стрэчи. Войдя, он ткнул пальцем в пятно на белом платье Ванессы:
– Сперма?
“Можно ли говорить такое?” – подумала я, и мы все громко рассмеялись. Это слово мигом разрушило все препоны скрытности и сдержанности. Нас будто увлек за собой мощный поток священной жидкости. Секс просочился в нашу беседу. Слово “содомит” готово было сорваться с наших губ. Мы говорили о совокуплении с той же откровенностью, с тем же возбуждением, как говорим о природе добра. А ведь еще совсем недавно мы об этом не могли и помыслить…»
Каких только тем не касались – лишь бы эти темы были запретными; совокупление, гомосексуализм, сексуальные отклонения были в их кругу такими же расхожими предметами для спора, как в светских салонах – политика и погода. Запретными и отвлеченными: блумсберийцы были искренне убеждены, как и Питер Уолш из «Миссис Дэллоуэй», что будущее цивилизации – в руках «преданных отвлеченностям». «Отвлеченно» говорили не только об искусстве, но и об «измах»: социализме, пацифизме, гомосексуализме. Да и сама атмосфера бесед на Гордон-сквер была отвлеченной, внежизненной: жизнь за окном никого не интересовала, как не интересовало и то, кто как себя ведет, как одет и как выглядит. Аргументировали гости Стивенов блестяще, а вот выглядели и одевались не ахти.
«Прискорбно, прискорбно! – сокрушался Генри Джеймс. – И что только себе думали Ванесса и Вирджиния, когда заводили таких друзей?»
«Более непрезентабельных, физически запущенных молодых людей, чем друзья Тоби, я в своей жизни не встречала», – вспоминала Вирджиния, которая однажды обмолвилась, что «должна видеть красивых людей», – и при этом, словно вступая в спор с самой собой, добавляла: – «Для меня лучшим доказательством превосходства этих личностей как раз служила их физически невыигрышная внешность и невнимание к одежде».
И собственного превосходства – тоже: Вирджиния всю жизнь была неряшлива, плохо за собой следила, неаккуратно одевалась, могла не причесаться, посадить на платье пятно…
Отсутствие интереса к одежде и внешнему виду означало интерес к чему-то другому, отвлеченному и возвышенному. Давало Вирджинии возможность «чувствовать, как взлетаешь на самый высокий гребень самой высокой волны».
Такие темы, как брак, болезни, туалеты, устройство на работу, бытовые проблемы, считались приземленными, не стоящими внимания. Никому не приходило в голову раздавать, подобно Джорджу Дакуорту, упреки или комплименты, как это бывало на Гайд-парк-гейт после очередного бала или приема: «Постарайся изобразить улыбку», «Сегодня ты очень неплохо смотрелась», «Что это ты весь вечер промолчала?».
Кстати о молчании. Сёстры, Вирджиния особенно, в обществе старшего брата и его кембриджских друзей на первых порах держались, как и полагалось юным викторианкам, незаметно, большей частью помалкивали. Помалкивали и упивались, насыщались аргументами и контраргументами участников «интеллектуальной корриды», «упражняли мозги».
«С замирающим сердцем я следила за головокружительными поворотами самых стойких из спорщиков, которые, словно скалолазы, взбирались всё выше и выше, пока, наконец, не водружали на место последний камешек – неопровержимый аргумент в запредельном споре. А ты стоял у подножия горы, смутно понимая, что у тебя над головой совершается чудо».
Об этом же она напишет в апреле 1908 года Литтону Стрэчи:
«Вы вызываете во мне ярость вашими интеллектуальными штучками. Мое почтительное отношение к умным молодым людям приводит меня в состояние интеллектуального паралича. Мне и в самом деле непонятно, о чем вы все болтаете».
Помалкивали, мало что понимали и радовались (Вирджиния, во всяком случае), что балы и светская жизнь обитательниц Гайд-парк-гейт остались позади.
«Она не любит наряжаться. Ей симпатичны друзья, бывающие у ее братьев, а также сборища, на которых молодые художники и поэты обсуждают будущее устройство мира»[19 - Вулф В. Я – Кристина Россетти /пер. М.Лукашкиной. // Иностранная литература, 2012, № 12. С. 218–219.].