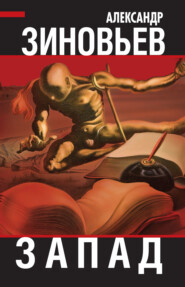По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я мечтаю о новом человеке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это верно. Но не совсем. Поначалу на Западе не разобрались, что я такое, и приняли меня за обычного критика режима, за диссидента. Но буквально через несколько недель после моего появления на Западе я приобрел репутацию «агента Москвы». К счастью, мои книги использовали против нашей страны очень мало. Мне на Западе устроили своего рода бойкот. Я проскочил, меня проглядели, и я приобрел определенную репутацию и свой круг читателей, благодаря чему я до сих пор существую и могу что-то печатать.
Что же касается использования в эфире… Пару раз передали беседы со мной по «Свободе» и тут же прекратили. Та же самая история произошла с «Немецкой волной», с Би-би-си. Все радиостанции прекратили меня, как вы говорите, «использовать». Даже ссылки прекратили на меня. И мне сказали, что, когда составлялись списки книг, которые надо было засылать по соответствующим каналам в Советский Союз, сам Солженицын вычеркнул мое имя. В результате организации, засылавшие антисоветскую литературу в СССР, отказались покупать у издателей мои книги. И мне приходилось заниматься этой «засылкой» самому, тратя при этом немалые деньги. Причем приходилось мне платить не только за книги, но и оплачивать услуги своих «курьеров».
И это продолжалось даже в горбачевские годы. Когда у меня вышла книга «Евангелие для Ивана» (о пьянстве), горбачевцы сочли ее едва ли не самой вредной, и мне пришлось платить «верному человеку» за то, чтобы он провез несколько ее экземпляров моим знакомым в Москву. Он рисковал, конечно.
Что касается критики, то она доброжелательной не бывает. Есть критика идеологическая – такой была критика в работах диссидентов. И была такая критика, как у меня, внеидеологическая. Вот сейчас ситуация в России изменилась, и те мои книги, которые прежде объявляли антисоветскими и антикоммунистическими, теперь те же самые люди, те же «запретители» и «хранители основ», объявляют просоветскими и прокоммунистическими.
Я признаю, что сатира моя острая. А что, Щедрин писал менее хлестко? А что, Свифт щадил свою страну? А Бальзак? Я сейчас его перечитываю. Так у него такая критика, что действительно впору было из Франции бежать. А Толстой? Почитайте сейчас его книги. Я только теперь начал понимать, какая это бичующая сатира, почему Толстого предавали в России анафеме. И вот еще одна деталь. Когда я начал писать, я был уверен, что коммунизм пришел в Россию на века и что моя критика не поколеблет его нисколько. Если бы я знал, что это пойдет СССР во вред и тем более будет способствовать его гибели, я бы не написал ни строчки. Мое самолюбие было вполне удовлетворено моими открытиями в логике.
Кстати, когда я отправил рукопись «Зияющих высот» во Францию, я сказал, почему я это сделал – чтобы рукопись не пропала. Я сказал: «Если десять человек прочитают эту книгу, я буду счастлив». И действительно, книга-то на широкие массы не рассчитана. Она рассчитана на то, чтобы над ней думать, читая ее потихоньку. Как, впрочем, и все мои другие книги. Так что вот, если все эти обстоятельства учесть, с меня часть вины за ущерб, причиненный стране, можно снять.
– А вы не думаете, что с вами произошло нечто вроде «перехода в Зазеркалье». Объект вашей критики стал объектом вашей горячей любви. И наоборот. И хотя это нормально, потому что любовь и ненависть всегда рядом, все же остается вопрос: почему у вас как философа, логика, ученого энциклопедического кругозора появилось неприятие советского общества именно на том этапе, когда вы принялись писать «Зияющие высоты»?
– Во-первых, неприятие надо понимать только в том смысле, что существовавшая в СССР система не была реализацией моих идеалов. И это я понял еще в 1939 году. Я даже не рассчитывал тогда на то, чтобы выжить, уж не говоря о литературной деятельности. «Зияющие высоты» в какой-то мере появились случайно. Я был целиком и полностью погружен в науку, был одержим ею, логикой, математикой и нелегально занимался социологическими исследованиями. И если бы меня спросили, что есть моя главная страсть, я бы ответил тогда: «Логика и социология». «Высоты» получились непроизвольно. Я писал отдельные куски без всякого заранее выработанного плана. Но, поскольку на меня, едва я только начал писать, мой ближайший друг донес в КГБ, за мной установили надзор и мне приходилось написанное прятать.
Я смолоду обнаружил в себе способность «хохмить», развлекать людей не столько даже бытовыми анекдотами, сколько политическими. Объектом моих шуточек была наша социальная среда. Я не собирался против нее бороться, когда писал «Высоты». Я еще в 1939 году принял решение принимать это общество таким, как есть. У меня сложился просто определенный менталитет, выработался свой голос. И, когда я начал писать, то я просто по другому «петь» уже не мог.
Конфликт между идеалами и реальностью произошел у меня еще в школьные годы. Я вырос как идеальный коммунист. Или, как говорили, «настоящий коммунист». Не в смысле «член партии, делающий карьеру», а как мы понимали, что такое Коммунист с большой буквы. Каким был Павка Корчагин и другие герои Гражданской войны. Таким был мой дядя, герой штурма Перекопа, известный большевик, член ЦК Михаил Маев. Он для меня был прообразом настоящего коммуниста. Ходил в шинели, отказывался от квартир и закрытых распределителей. Как говорил Маяковский, «кроме свежевымытой сорочки, мне ничего не надо». Бескорыстное служение своему обществу, своим товарищам, своему коллективу, всей Родине – это был мой принцип. Вот во время войны, если надо было прикрыть отступление товарищей, я выходил добровольцем. Но при этом предполагалось, что и другие будут поступать точно также. Будут такими же. Увы, это был расчет наивный…
Еще мальчишкой, в 15–16 лет, когда я уже хорошо для своего возраста знал марксистскую литературу, я пришел к выводу, что если все люди будут настоящими коммунистами, жизнь будет справедливой, чистой, честной. А в реальности, увы, ничего подобного не было. В реальности люди хапали, воровали, доносили друг на друга. То есть происходило нечто прямо противоположное. Вот в чем дело.
– Да, так было. Но одни воспринимали это нормально. Другие так или иначе это осуждали и протестовали против этого. Третьи воспринимали это как данность, возмущаясь про себя, старались сами не запачкаться, никоим другим образом против подобной практики тотального подонкизма не протестуя. На каком этапе вы пришли к активному неприятию такой действительности?
– В 1939 году меня исключили из института, обследовали в психиатрическом диспансере и отправили на Лубянку. Тогда я понял: такого идеального общества, о котором я мечтал, нет и не будет никогда. И принял решение: «Я принимаю советское общество таким, как оно есть, и ставлю задачу: делать идеальное общество из одного себя». Я решил стать сам таким, чтобы соответствовать своему идеалу. И я начал свой эксперимент. И вся моя жизнь была таким экспериментом. Но это не неприятие реальности. Наоборот, я ее принял и сейчас принимаю.
Потом прошла целая долгая жизнь. И я не предполагал, что так долго проживу. Внутри где-то вызревало, принимая литературные и научные формы, понимание этой реальности, совсем другого рода понимание. Я нелегально строил социологическую теорию советского общества и разрабатывал для нее математический аппарат.
– В чем суть вашей теории? Что такое коммунистическое общество? Улей, муравейник, термитник?
– Улей – это частный случай социального объединения. Человеческое общество гораздо сложнее, грандиознее. Его структура дифференцирования куда сложнее. И формы, с помощью которых надо описывать это общество, требуют такого математического аппарата, которого пока официально не существует. А я рассматривал человеческое общество, отвлекаясь от того, что человек имеет какой-то свой внутренний мир. Я исходил только из того, что человек имеет тело и мозг. Мозг – орган расчета и управления. А этот орган управления подчиняется определенным правилам. Это предпосылки моей теории, которая легла и в основу «Высот». Многие критики полагают, что я ходил и подсматривал, подслушивал, записывал все, что в нашем обществе происходило. И так получились «Высоты», потом другие книги. Ничего подобного. Я вычислил это общество.
Весь мой Ибанск – это город, который я извлек из своей головы, руководствуясь определенными логическими правилами. В «Высотах» есть такой пассаж: «Ибанск выдумал Шизофреник в пьяном виде…» и т. д. Примерно так это и происходило. В значительной мере книга автобиографическая. Я этот город выдумал, но выдумка опиралась на определенные познания реальности.
– С одной стороны, был подход социологический. С другой – биологический. Вот вы рассматриваете человека, как робота фактически, – тело и голова, центр расчета и ориентации. Ну а как же духовность?
– Как понимать духовность? В том смысле, как вы понимаете, мы, конечно, бездуховные. Но это не значит, что само общество бездуховное. Но в Ибанске – да. Духовности там нет. Ее не было в предпосылках. Я намеренно это исключил. (Это фантастика, но в октябре 1994 года в репортаже из бездуховного купленного аферистом Мавроди города Мытищи американская журналистка писала: «Мытищи напоминают один к одному Ибанск, описанный Зиновьевым в его «Зияющих высотах»!)
– А почему? Без этого же нет и не может быть России?!
– Для того чтобы построить теорию, нужно производить упрощения. Если упрощения не произведешь, ни одного шага вперед не сделаешь. Я много лет изучал советское общество, используя свою систему упрощений. Я вместе со своими некоторыми студентами строил логико-математические модели этого общества. Ну, например, для того чтобы выяснить, возможны кризисы в советском обществе или нет. Официально считалось, что общество это бескризисное. Я строил модель, в рамках которой и доказывал, как теорему, что кризисы неизбежны. Возникновение экстремальных ситуаций неизбежно, ибо развитие общества идет не по прямой линии, а напоминает кардиограмму, где есть взлеты, падения. Но для того чтобы все это доказать, надо многое исключить. В том, что касается общества, то человека приходится сводить к такому существу, у которого есть тело и органы управления. Органы управления должны производить определенные действия, чтобы тело сохранялось.
– Но это – схема?
– Да. Еще студентом я писал работу о «Капитале» Маркса. Моя работа называлась «Метод восхождения от абстрактного к конкретному». Я в моей социологической теории до сих пор применяю этот метод. В «Высотах» я такого сделать не смог. Я решил, что новые аспекты буду рассматривать в других книгах. Я начал книгу «В преддверии рая». Там я уже разбирал проблемы идеологии, религии. В «Высотах» этого не было.
– Иначе говоря, после «Высот» вы приступили к созданию целой серии книг, идя от самого простого, абстрактного, как в «Высотах», к конкретному описанию все новых и новых аспектов коммунистической, советской реальности. Так?
– Да. Так появились и «Желтый дом», и «Светлое будущее», и другие книги. Но я эту серию не довел до конца по той самой простой причине, что с 1985 года в стране стали происходить известные всем события. И мое внимание отвлеклось, переключилось на исследование кризиса коммунизма и его распада. Если бы этого не произошло, я бы продолжил работать над этой задуманной мной серией, постепенно – и здесь вы правы – расширяя круг исследования реалий коммунизма. Со временем я, быть может, опубликую те материалы, которые у меня были заготовлены для всей серии.
– Они как-то использовались?
– Да. Например, книга «Смута», которая вышла на французском языке, была написана еще до 1985 года. А затем мне пришлось дописать вторую часть, и получилась совершенно другая книга. Я готовил книгу о советских партийных работниках, но ее теперь придется перерабатывать с учетом эволюции таких оборотней, как Яковлев, Горбачев, Шеварднадзе и прочие. Сначала я задумывал эту книгу как конкретное описание аппарата власти, а теперь она у меня превращается в книгу «Откуда появились Яковлевы и Горбачевы». Жизнь коротка, так что я вряд ли смогу выполнить все задуманное. На полдороге остановился.
– Как вам удается укладывать логическую схему в литературу?
– Думаю, что целиком она не укладывается. Наверное, я начал создавать особый жанр, который я называю «социологическим романом». Моя логическая теория пересекается с тем, что я делаю в литературе. Не все можно включить в литературу и не все в литературе можно свести к логической схеме. Ну, например, нельзя к такой схеме свести юмор, шутки, анекдоты.
Когда я начинал писать, у меня превалировал логический подход. Но постепенно материал овладевал мной, и я непроизвольно начинал подчиняться материалу. Далеко не всегда удается написать книгу так, как она первоначально задумана, даже профессиональному логику. Даже концовка иной раз совершенно неожиданно, сама по себе, выскакивает – и такая, какую совсем не ожидал.
– Иначе говоря, логическую схему заменил парадокс?
– Парадокс, метафора, шутка, гротеск. И не то чтобы заменил – скорее, оттеснил.
– После августа 1991-го вы не раз выступали за воссоздание в России коммунистического общества. Почему?
– Я защищаю не само это общество, а правду о нем. А в современной пропаганде России и других стран СНГ, и уж тем более в западной, это общество изображается в жутко извращенном виде. Как сторонник научного подхода я прежде всего отметаю это идеологическое извращение. Как ученый я не лишен тщеславия. Я хочу делать открытия. И описывать общества адекватно истине. Нравится мне это общество или нет – это второстепенно. А воспринимают этот подход, однако, так, будто я коммунистическое общество защищаю.
– Вольно или невольно?
– Объективно. Как бы то ни было, но это было общество поголовной грамотности. В нем минимальные потребности людей удовлетворялись, люди имели работу, гарантированное медицинское обслуживание – плохое оно или нет, другой вопрос, и т. д. Любые антисоветские идеологи воспринимают сам факт упоминания всего этого как апологетику коммунизма. Но это – всего лишь реальность. Второй аспект. Я не могу сказать, что я абсолютно равнодушен к этому обществу. У меня есть свои пристрастия, симпатии и антипатии. Я – продукт этого общества, человек советский, происходящий из этого советского общества. Заявлять это сейчас и в России, и тем более здесь, на Западе, означает вызывать на себя огонь.
– По-своему повторилась ваша история с выездом на Запад. Ведь в России сторонники демократов тоже попытались поначалу взять вас в свои союзники.
– Да, все приезжавшие ко мне в Мюнхен люди изображали из себя борцов с режимом, утверждали, будто они с этим обществом ничего не имеют общего. А я говорю: это мое общество, и я продукт этого общества. Если бы я не написал «Высоты», меня бы оттуда никто не выгнал, а сам бы я не уехал.
Я пришел к выводу, что для России существовавший до 1985 года строй был спасением, был рывком вперед, и с любым другим социальным строем Россия погибла бы. Но, защищая этот строй, я вовсе не идеализирую его. Я могу ошибаться. Но считаю, что Россия может устоять как великая страна, а русский народ может уцелеть как великий народ только с такой социальной системой. С любой другой он будет разгромлен.
Если бы началась сегодня гражданская война, и с одной стороны были бы те, кто воевал бы за результаты Октябрьской революции и достижения Советского периода, а с другой – их противники, я стал бы воевать на стороне первых.
Я для себя решил эту проблему еще во время войны с Германией. Будучи антисталинистом, я даже вел антисталинистскую пропаганду. Но если бы во время войны мне пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти Сталина как Верховного главнокомандующего, я без колебаний пошел бы на это. Нечто подобное я и делал в качестве солдата и офицера Красной Армии.
* * *
Весной 1993-го Зиновьев приехал в Париж ненадолго и забежал ко мне на часок, а проговорили мы полдня. Я только успевал в магнитофоне менять пленки.
Вот первое, с чего он начал:
– В отличие от марксистов, которые считают, что новое коммунистическое общество не вызревает до революции, я считаю, что советское общество было продолжением того, которое было до революции.
– Это, пожалуй, самое убедительное доказательство того, что вы, Александр Александрович, – не марксист. И все же, каковы доказательства?
– Я брал свою родную местность, свой район. Вся революция у нас выразилась в том, что взяли и сняли одни вывески, а затем повесили другие. Ну, был у нас один капиталист, он уехал в Париж. Был помещик, так он тоже куда-то испарился. А все остальное осталось нетронутым. Вместо полиции получилась милиция. Вместо городского головы – горсовет образовался. И все осталось даже в тех же самых помещениях. Изменились только бланки да печати.
– То есть чиновничество осталось, просто сменило мундиры с фуражками с царскими орлами в кокардах на гимнастерки и краснозвездные буденовки. Так, что ли?
– Практически. Революция и гражданская война – это ведь не только штурм Зимнего, не только Чапаев, который размахивал шашкой, или Буденный. Нужна еще и контора, для того чтобы Чапаев шашкой размахивал. Нужно документы оформлять, распределять те же самые шашки, обозы, еду. Без этого не обойдешься. Бюрократический аппарат неистребим. Он существовал и будет существовать всегда. Без него не проживешь. А это уже все было и до революции. Маркс считал, что государство в конечном счете отомрет. Я сказал: нет, не отомрет. Общество без государства немыслимо.
– Думаю, что Маркс говорил об этом, заглядывая на многие сотни лет вперед. Говоря об общественном самоуправлении, он подчеркивал необходимость выработки у людей привычки действовать в соответствии с общественным интересом, а не тянуть одеяло только на себя. В России эта задача тем более затруднена. Ее решение потребует, возможно, еще одного тысячелетия, так как у нас нет той двухтысячелетней и более традиции западноевропейского законопослушания. Поэтому в России и марксизм был вынужден пройти своего рода русификацию. Иначе бы он здесь не прижился.
Что же касается использования в эфире… Пару раз передали беседы со мной по «Свободе» и тут же прекратили. Та же самая история произошла с «Немецкой волной», с Би-би-си. Все радиостанции прекратили меня, как вы говорите, «использовать». Даже ссылки прекратили на меня. И мне сказали, что, когда составлялись списки книг, которые надо было засылать по соответствующим каналам в Советский Союз, сам Солженицын вычеркнул мое имя. В результате организации, засылавшие антисоветскую литературу в СССР, отказались покупать у издателей мои книги. И мне приходилось заниматься этой «засылкой» самому, тратя при этом немалые деньги. Причем приходилось мне платить не только за книги, но и оплачивать услуги своих «курьеров».
И это продолжалось даже в горбачевские годы. Когда у меня вышла книга «Евангелие для Ивана» (о пьянстве), горбачевцы сочли ее едва ли не самой вредной, и мне пришлось платить «верному человеку» за то, чтобы он провез несколько ее экземпляров моим знакомым в Москву. Он рисковал, конечно.
Что касается критики, то она доброжелательной не бывает. Есть критика идеологическая – такой была критика в работах диссидентов. И была такая критика, как у меня, внеидеологическая. Вот сейчас ситуация в России изменилась, и те мои книги, которые прежде объявляли антисоветскими и антикоммунистическими, теперь те же самые люди, те же «запретители» и «хранители основ», объявляют просоветскими и прокоммунистическими.
Я признаю, что сатира моя острая. А что, Щедрин писал менее хлестко? А что, Свифт щадил свою страну? А Бальзак? Я сейчас его перечитываю. Так у него такая критика, что действительно впору было из Франции бежать. А Толстой? Почитайте сейчас его книги. Я только теперь начал понимать, какая это бичующая сатира, почему Толстого предавали в России анафеме. И вот еще одна деталь. Когда я начал писать, я был уверен, что коммунизм пришел в Россию на века и что моя критика не поколеблет его нисколько. Если бы я знал, что это пойдет СССР во вред и тем более будет способствовать его гибели, я бы не написал ни строчки. Мое самолюбие было вполне удовлетворено моими открытиями в логике.
Кстати, когда я отправил рукопись «Зияющих высот» во Францию, я сказал, почему я это сделал – чтобы рукопись не пропала. Я сказал: «Если десять человек прочитают эту книгу, я буду счастлив». И действительно, книга-то на широкие массы не рассчитана. Она рассчитана на то, чтобы над ней думать, читая ее потихоньку. Как, впрочем, и все мои другие книги. Так что вот, если все эти обстоятельства учесть, с меня часть вины за ущерб, причиненный стране, можно снять.
– А вы не думаете, что с вами произошло нечто вроде «перехода в Зазеркалье». Объект вашей критики стал объектом вашей горячей любви. И наоборот. И хотя это нормально, потому что любовь и ненависть всегда рядом, все же остается вопрос: почему у вас как философа, логика, ученого энциклопедического кругозора появилось неприятие советского общества именно на том этапе, когда вы принялись писать «Зияющие высоты»?
– Во-первых, неприятие надо понимать только в том смысле, что существовавшая в СССР система не была реализацией моих идеалов. И это я понял еще в 1939 году. Я даже не рассчитывал тогда на то, чтобы выжить, уж не говоря о литературной деятельности. «Зияющие высоты» в какой-то мере появились случайно. Я был целиком и полностью погружен в науку, был одержим ею, логикой, математикой и нелегально занимался социологическими исследованиями. И если бы меня спросили, что есть моя главная страсть, я бы ответил тогда: «Логика и социология». «Высоты» получились непроизвольно. Я писал отдельные куски без всякого заранее выработанного плана. Но, поскольку на меня, едва я только начал писать, мой ближайший друг донес в КГБ, за мной установили надзор и мне приходилось написанное прятать.
Я смолоду обнаружил в себе способность «хохмить», развлекать людей не столько даже бытовыми анекдотами, сколько политическими. Объектом моих шуточек была наша социальная среда. Я не собирался против нее бороться, когда писал «Высоты». Я еще в 1939 году принял решение принимать это общество таким, как есть. У меня сложился просто определенный менталитет, выработался свой голос. И, когда я начал писать, то я просто по другому «петь» уже не мог.
Конфликт между идеалами и реальностью произошел у меня еще в школьные годы. Я вырос как идеальный коммунист. Или, как говорили, «настоящий коммунист». Не в смысле «член партии, делающий карьеру», а как мы понимали, что такое Коммунист с большой буквы. Каким был Павка Корчагин и другие герои Гражданской войны. Таким был мой дядя, герой штурма Перекопа, известный большевик, член ЦК Михаил Маев. Он для меня был прообразом настоящего коммуниста. Ходил в шинели, отказывался от квартир и закрытых распределителей. Как говорил Маяковский, «кроме свежевымытой сорочки, мне ничего не надо». Бескорыстное служение своему обществу, своим товарищам, своему коллективу, всей Родине – это был мой принцип. Вот во время войны, если надо было прикрыть отступление товарищей, я выходил добровольцем. Но при этом предполагалось, что и другие будут поступать точно также. Будут такими же. Увы, это был расчет наивный…
Еще мальчишкой, в 15–16 лет, когда я уже хорошо для своего возраста знал марксистскую литературу, я пришел к выводу, что если все люди будут настоящими коммунистами, жизнь будет справедливой, чистой, честной. А в реальности, увы, ничего подобного не было. В реальности люди хапали, воровали, доносили друг на друга. То есть происходило нечто прямо противоположное. Вот в чем дело.
– Да, так было. Но одни воспринимали это нормально. Другие так или иначе это осуждали и протестовали против этого. Третьи воспринимали это как данность, возмущаясь про себя, старались сами не запачкаться, никоим другим образом против подобной практики тотального подонкизма не протестуя. На каком этапе вы пришли к активному неприятию такой действительности?
– В 1939 году меня исключили из института, обследовали в психиатрическом диспансере и отправили на Лубянку. Тогда я понял: такого идеального общества, о котором я мечтал, нет и не будет никогда. И принял решение: «Я принимаю советское общество таким, как оно есть, и ставлю задачу: делать идеальное общество из одного себя». Я решил стать сам таким, чтобы соответствовать своему идеалу. И я начал свой эксперимент. И вся моя жизнь была таким экспериментом. Но это не неприятие реальности. Наоборот, я ее принял и сейчас принимаю.
Потом прошла целая долгая жизнь. И я не предполагал, что так долго проживу. Внутри где-то вызревало, принимая литературные и научные формы, понимание этой реальности, совсем другого рода понимание. Я нелегально строил социологическую теорию советского общества и разрабатывал для нее математический аппарат.
– В чем суть вашей теории? Что такое коммунистическое общество? Улей, муравейник, термитник?
– Улей – это частный случай социального объединения. Человеческое общество гораздо сложнее, грандиознее. Его структура дифференцирования куда сложнее. И формы, с помощью которых надо описывать это общество, требуют такого математического аппарата, которого пока официально не существует. А я рассматривал человеческое общество, отвлекаясь от того, что человек имеет какой-то свой внутренний мир. Я исходил только из того, что человек имеет тело и мозг. Мозг – орган расчета и управления. А этот орган управления подчиняется определенным правилам. Это предпосылки моей теории, которая легла и в основу «Высот». Многие критики полагают, что я ходил и подсматривал, подслушивал, записывал все, что в нашем обществе происходило. И так получились «Высоты», потом другие книги. Ничего подобного. Я вычислил это общество.
Весь мой Ибанск – это город, который я извлек из своей головы, руководствуясь определенными логическими правилами. В «Высотах» есть такой пассаж: «Ибанск выдумал Шизофреник в пьяном виде…» и т. д. Примерно так это и происходило. В значительной мере книга автобиографическая. Я этот город выдумал, но выдумка опиралась на определенные познания реальности.
– С одной стороны, был подход социологический. С другой – биологический. Вот вы рассматриваете человека, как робота фактически, – тело и голова, центр расчета и ориентации. Ну а как же духовность?
– Как понимать духовность? В том смысле, как вы понимаете, мы, конечно, бездуховные. Но это не значит, что само общество бездуховное. Но в Ибанске – да. Духовности там нет. Ее не было в предпосылках. Я намеренно это исключил. (Это фантастика, но в октябре 1994 года в репортаже из бездуховного купленного аферистом Мавроди города Мытищи американская журналистка писала: «Мытищи напоминают один к одному Ибанск, описанный Зиновьевым в его «Зияющих высотах»!)
– А почему? Без этого же нет и не может быть России?!
– Для того чтобы построить теорию, нужно производить упрощения. Если упрощения не произведешь, ни одного шага вперед не сделаешь. Я много лет изучал советское общество, используя свою систему упрощений. Я вместе со своими некоторыми студентами строил логико-математические модели этого общества. Ну, например, для того чтобы выяснить, возможны кризисы в советском обществе или нет. Официально считалось, что общество это бескризисное. Я строил модель, в рамках которой и доказывал, как теорему, что кризисы неизбежны. Возникновение экстремальных ситуаций неизбежно, ибо развитие общества идет не по прямой линии, а напоминает кардиограмму, где есть взлеты, падения. Но для того чтобы все это доказать, надо многое исключить. В том, что касается общества, то человека приходится сводить к такому существу, у которого есть тело и органы управления. Органы управления должны производить определенные действия, чтобы тело сохранялось.
– Но это – схема?
– Да. Еще студентом я писал работу о «Капитале» Маркса. Моя работа называлась «Метод восхождения от абстрактного к конкретному». Я в моей социологической теории до сих пор применяю этот метод. В «Высотах» я такого сделать не смог. Я решил, что новые аспекты буду рассматривать в других книгах. Я начал книгу «В преддверии рая». Там я уже разбирал проблемы идеологии, религии. В «Высотах» этого не было.
– Иначе говоря, после «Высот» вы приступили к созданию целой серии книг, идя от самого простого, абстрактного, как в «Высотах», к конкретному описанию все новых и новых аспектов коммунистической, советской реальности. Так?
– Да. Так появились и «Желтый дом», и «Светлое будущее», и другие книги. Но я эту серию не довел до конца по той самой простой причине, что с 1985 года в стране стали происходить известные всем события. И мое внимание отвлеклось, переключилось на исследование кризиса коммунизма и его распада. Если бы этого не произошло, я бы продолжил работать над этой задуманной мной серией, постепенно – и здесь вы правы – расширяя круг исследования реалий коммунизма. Со временем я, быть может, опубликую те материалы, которые у меня были заготовлены для всей серии.
– Они как-то использовались?
– Да. Например, книга «Смута», которая вышла на французском языке, была написана еще до 1985 года. А затем мне пришлось дописать вторую часть, и получилась совершенно другая книга. Я готовил книгу о советских партийных работниках, но ее теперь придется перерабатывать с учетом эволюции таких оборотней, как Яковлев, Горбачев, Шеварднадзе и прочие. Сначала я задумывал эту книгу как конкретное описание аппарата власти, а теперь она у меня превращается в книгу «Откуда появились Яковлевы и Горбачевы». Жизнь коротка, так что я вряд ли смогу выполнить все задуманное. На полдороге остановился.
– Как вам удается укладывать логическую схему в литературу?
– Думаю, что целиком она не укладывается. Наверное, я начал создавать особый жанр, который я называю «социологическим романом». Моя логическая теория пересекается с тем, что я делаю в литературе. Не все можно включить в литературу и не все в литературе можно свести к логической схеме. Ну, например, нельзя к такой схеме свести юмор, шутки, анекдоты.
Когда я начинал писать, у меня превалировал логический подход. Но постепенно материал овладевал мной, и я непроизвольно начинал подчиняться материалу. Далеко не всегда удается написать книгу так, как она первоначально задумана, даже профессиональному логику. Даже концовка иной раз совершенно неожиданно, сама по себе, выскакивает – и такая, какую совсем не ожидал.
– Иначе говоря, логическую схему заменил парадокс?
– Парадокс, метафора, шутка, гротеск. И не то чтобы заменил – скорее, оттеснил.
– После августа 1991-го вы не раз выступали за воссоздание в России коммунистического общества. Почему?
– Я защищаю не само это общество, а правду о нем. А в современной пропаганде России и других стран СНГ, и уж тем более в западной, это общество изображается в жутко извращенном виде. Как сторонник научного подхода я прежде всего отметаю это идеологическое извращение. Как ученый я не лишен тщеславия. Я хочу делать открытия. И описывать общества адекватно истине. Нравится мне это общество или нет – это второстепенно. А воспринимают этот подход, однако, так, будто я коммунистическое общество защищаю.
– Вольно или невольно?
– Объективно. Как бы то ни было, но это было общество поголовной грамотности. В нем минимальные потребности людей удовлетворялись, люди имели работу, гарантированное медицинское обслуживание – плохое оно или нет, другой вопрос, и т. д. Любые антисоветские идеологи воспринимают сам факт упоминания всего этого как апологетику коммунизма. Но это – всего лишь реальность. Второй аспект. Я не могу сказать, что я абсолютно равнодушен к этому обществу. У меня есть свои пристрастия, симпатии и антипатии. Я – продукт этого общества, человек советский, происходящий из этого советского общества. Заявлять это сейчас и в России, и тем более здесь, на Западе, означает вызывать на себя огонь.
– По-своему повторилась ваша история с выездом на Запад. Ведь в России сторонники демократов тоже попытались поначалу взять вас в свои союзники.
– Да, все приезжавшие ко мне в Мюнхен люди изображали из себя борцов с режимом, утверждали, будто они с этим обществом ничего не имеют общего. А я говорю: это мое общество, и я продукт этого общества. Если бы я не написал «Высоты», меня бы оттуда никто не выгнал, а сам бы я не уехал.
Я пришел к выводу, что для России существовавший до 1985 года строй был спасением, был рывком вперед, и с любым другим социальным строем Россия погибла бы. Но, защищая этот строй, я вовсе не идеализирую его. Я могу ошибаться. Но считаю, что Россия может устоять как великая страна, а русский народ может уцелеть как великий народ только с такой социальной системой. С любой другой он будет разгромлен.
Если бы началась сегодня гражданская война, и с одной стороны были бы те, кто воевал бы за результаты Октябрьской революции и достижения Советского периода, а с другой – их противники, я стал бы воевать на стороне первых.
Я для себя решил эту проблему еще во время войны с Германией. Будучи антисталинистом, я даже вел антисталинистскую пропаганду. Но если бы во время войны мне пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти Сталина как Верховного главнокомандующего, я без колебаний пошел бы на это. Нечто подобное я и делал в качестве солдата и офицера Красной Армии.
* * *
Весной 1993-го Зиновьев приехал в Париж ненадолго и забежал ко мне на часок, а проговорили мы полдня. Я только успевал в магнитофоне менять пленки.
Вот первое, с чего он начал:
– В отличие от марксистов, которые считают, что новое коммунистическое общество не вызревает до революции, я считаю, что советское общество было продолжением того, которое было до революции.
– Это, пожалуй, самое убедительное доказательство того, что вы, Александр Александрович, – не марксист. И все же, каковы доказательства?
– Я брал свою родную местность, свой район. Вся революция у нас выразилась в том, что взяли и сняли одни вывески, а затем повесили другие. Ну, был у нас один капиталист, он уехал в Париж. Был помещик, так он тоже куда-то испарился. А все остальное осталось нетронутым. Вместо полиции получилась милиция. Вместо городского головы – горсовет образовался. И все осталось даже в тех же самых помещениях. Изменились только бланки да печати.
– То есть чиновничество осталось, просто сменило мундиры с фуражками с царскими орлами в кокардах на гимнастерки и краснозвездные буденовки. Так, что ли?
– Практически. Революция и гражданская война – это ведь не только штурм Зимнего, не только Чапаев, который размахивал шашкой, или Буденный. Нужна еще и контора, для того чтобы Чапаев шашкой размахивал. Нужно документы оформлять, распределять те же самые шашки, обозы, еду. Без этого не обойдешься. Бюрократический аппарат неистребим. Он существовал и будет существовать всегда. Без него не проживешь. А это уже все было и до революции. Маркс считал, что государство в конечном счете отомрет. Я сказал: нет, не отомрет. Общество без государства немыслимо.
– Думаю, что Маркс говорил об этом, заглядывая на многие сотни лет вперед. Говоря об общественном самоуправлении, он подчеркивал необходимость выработки у людей привычки действовать в соответствии с общественным интересом, а не тянуть одеяло только на себя. В России эта задача тем более затруднена. Ее решение потребует, возможно, еще одного тысячелетия, так как у нас нет той двухтысячелетней и более традиции западноевропейского законопослушания. Поэтому в России и марксизм был вынужден пройти своего рода русификацию. Иначе бы он здесь не прижился.