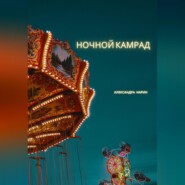По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Залив девочек
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы уходим в свою деревню, – сказала акка маме, – возьми деньги за камень. Спрячь их хорошо в разных местах, часть положи девочке.
– Бог благословит тебя, старшая сестра! Мы пойдем в город работать на швейную фабрику.
– Иди подальше от больших дорог. Там молодая женщина может попасть в плохую беду. – Акка покачала головой. – Когда придешь в город, говори только со старыми людьми. Пусть они скажут тебе, где фабрика. В городе спрашивай много раз, чтобы тебя не обманули. Не показывай им свои деньги, а если захочешь купить чаю, заранее достань немного денег в стороне.
Так сказала акка, и все ушли. Мы еще долго сидели в пустом поле и смотрели: люди идут, катят свои тележки, полные тряпок. Мы смотрели и смотрели, пока люди не стали маленькими, как богомолы.
Грейс
Любовь родилась в бедрах ночью, когда из всех цветов тек черный аромат. Я встала на рассвете, смотрела на перламутровый Бэй, на неподвижные лодки, темные силуэты грузовиков вдоль пляжа. На проводах спали маленькие голуби, что умеют смеяться и кричать как петухи. Любовь наполняла воздух мучительным наслаждением, разливала золотистое масло по краю неба. Я еще не знала своего любимого, но уже любила его.
Бабушка и наша горничная Чарита стучали посудой в кухне. Я обмотала волосы платком и пошла к ним.
Кухня напоминала картины Санджая Бхаттачарьи, полные гипнотических деталей, пара, света и теней. Чарита с блестящим от пота лицом держала щипцами лепешки над газом, они раздувались от горячего воздуха, становились пышными. В седых волосах на висках бабушки скопилась испарина. Бабушка жарила требуху с луком в огромной сковороде. Внутренности кур отдавали трущобой Ноччикупам, где Чарита брала их у торговца.
Бабушка посмотрела на меня единственным глазом. Второй, голубовато-белый, лежал мертвым под прикрытым веком. Из-за этого глаза лицо бабушки всегда казалось строгим и мученическим.
– Порежь овощи, свари лапшу и яйца.
Я поставила чаны с водой, достала сорок упаковок лапши. Осторожно одно за другим погрузила в воду тридцать пять яиц – как сварятся, нужно разрезать пополам, чтоб казалось больше. Мне снова, как ночью, стало страшно из-за того, что продуктов так мало и наш мир убывает.
Я вытянулась над платформой для готовки еды, чтоб взглянуть на небо через решетку окна: оно уже засияло над квадратом глубокого двора-колодца, куда смотрели все кухни Башни. Некоторые женщины стояли у плит, но большинство кухонь были еще пусты, хозяйки спали, а служанки не пришли. Я снова вспомнила, что у меня теперь есть любовь, она везде. Ей тесно во дворе-колодце, она вспорхнула и летит.
Я чистила яйца, обжигаясь, слышала шаги папы. Папа включил радио, и оно затрещало, заговорило о выборах в корпорацию[20 - Ченнаем управляет Большая корпорация (бывшая «Корпорация Мадрас»), основанная в 1688 году. Это самая старая из сохранившихся муниципальных корпораций в Индии и вторая самая старая в мире. Корпорацию возглавляет мэр. Мэр и советники города избираются населением путем всеобщего голосования.]. «Только проснешься, начинается политика», – подумала я вскользь. В уши приливом ударили голоса девочек. Они поднимались на завтрак.
* * *
У нас не было квартиры, в которой мы могли бы жить все вместе. Только рассыпанные по Башне комнаты, перемешанные с квартирами соседей, как лук с нутом. Я спала в закутке возле кухни и гостиной.
В гостиной мы ели, молились, сушили вещи, из нее выбегали на балкон посмотреть, что происходит на улице Сантхомхай. Мы никогда не закрывали эту гостиную, она была продолжением общего коридора.
В конце коридора, как в другом квартале, ютились папина и бабушкина спальни и еще комнатушка с деревянной мебелью, укрытой вязаными накидками, маминым резным креслом с истертой от времени клетчатой подкладкой, телевизором, по которому стучали, чтоб он заработал. В узкое окно той комнаты печальными глазами смотрела трущоба Ноччикупам.
Я привыкла к Башне и не знала другого дома, хотя она стенами цвета сухой крови напоминала темную гору с пробитыми внутри пещерами. Внутри комнат-пещер ужас кое-как прикрывался уютом человеческих вещей: ламп, покрывал, календарей с водопадами.
Кто-то еще кроме людей обитал в широких коридорах, в лифте с решеткой, на которой дрожали от сквозняка клочья паутины. Механизмы в шахте скрипели даже ночью. Этот лифт никогда не приходил на нужный этаж.
В детстве мне часто виделось, что соседи меняют лица, меня пугали внутренние дворы с мутными окнами кухонь, особенно когда с Бэя шла непогода. В эти дворы невозможно было войти, только если вылезти из окна, и я не понимала, для чего и для кого они построены. На дне их копился мусор, как в канале возле дома тетушки в Калачале.
Маленькой я слушала, как кто-то лазит в пространстве между стен, во всех ходах, вентиляциях, которыми прошита Башня. Хотя рядом жили папа, бабушка, девочки, я была жалкой перед миром, слабее пыли. Мир даже днем подходил к самому моему уху сгустком кошмара.
* * *
Девочки жили этажом ниже нашего в комнате, разгороженной шкафом. Поднимаясь, они ворковали, как голубицы. Мои сестры, мои дочери.
Хотя, возможно, я думаю о них так сейчас из-за тоски по тем дням. Тогда я не думала ничего. Протирала подносы, резала яйца. Через пару часов я должна была снова встать к плите, чтобы варить обед.
Мои девочки, лохматые и не прибранные, возились на полу, смеялись и кушали. Вся комната походила на коробку со щенками, которым не интересно лежать на лоскутной подстилке. Но все замирали, когда папа складывал руки у груди. Губы детей повторяли за папой. Только самая маленькая, Бисеринка, возилась и ползала, как улитка, оставляя за собой влажный след.
В утро, когда ко мне пришла любовь, папа выбрал ту же молитву, что и я, проснувшись. Слова ее придумали монахи, которые везли по морю к южноиндийским берегам Благую весть. Монахи заблудились в водовороте бури, метались среди исполинских волн, как в бушующем лесу. Они стали молиться Матери Божьей, и внезапный таинственный свет привел их к земле.
– Владычица света, рассеивающая тьму, просим твоей помощи в нашей нужде. Звезда морей, чей маяк спасает тех, кого швыряет буря жизни, даруй нам свое утешение, – произносили мы хором. Я сидела в углу, сжимая поднос пальцами со сломанными ногтями. Сейчас я думаю, мы читали эту молитву не для Бога, а друг для друга. Мы произносили слова вместе, соединяя наши души.
– Аминь, – говорил отец голосом епископа.
– Аминь, – говорили девочки.
Ела я мало, смотрела, как они едят, будут ли сыты перед школой.
* * *
Исподтишка глядела на всех Крупинка, миловидная девчонка с длинными, до колен, волосами, ясно – она уже что-то сотворила. Может быть, переменила тетради в сумках у подруг, связала лямки школьных юбок, насыпала муравьев в коробку с заколками. Один раз она засунула живую рыбу в портфель к одной из Двух Хлебов. Крупинку младенцем мать бросила в водосток. Она застряла в ветках и траве, что скопились по течению. Соседка услышала плач, выловила ее из плотины, отнесла к нам.
Два Хлеба уплетали с одного подноса руками, занося еду в рот друг другу, как двухголовое многорукое существо. Отец не хотел их забирать, они были два недозрелых птенца с голой желтоватой кожей. Он не верил, что они выживут, невесомые, словно лепешки. Отец не хотел их забирать, ведь их мать жива. Но она приносила близнецов к нам снова и снова, каждый день. «Хватит, возьми их, – сказала тогда бабушка. – Господь нас не оставит». Мы отвезли близнецов в частный госпиталь, там они долго лежали в пластиковых ящиках с приклеенными на пластырь трубками в носу. Смерть склонилась над их колыбелью, гладила их по головкам. Они смотрели на смерть и набирали сил из всего, что кружилось вокруг. Они пили силы из мимолетных взглядов медсестер, воздуха, солнечных лучей. Потом дома мы выхаживали их на козьем молоке с рынка. Та женщина, их мать, жила где-то рядом, в прибрежных трущобах. Я встречала ее в лавках с другими детьми. Она всегда смотрела сквозь меня, шумно и быстро покупала муку или рис, исчезала в потоке улицы. Она не приходила навещать близнецов.
Шелкопряд ела так же ловко и жадно, как остальные, хотя ее ручке недоставало трех пальцев, потерянных на фабрике. Ее и Лучика в разные дни привезли нам из Канчипурама, где дети ткут лучшее во всем мире сари.
В новенькой Лучике была тишина дневного света. Она могла весь день просидеть за тамариндами у забора. Мы думали, Лучик немая, но по ночам она кричала, звала навзрыд маму, будила других детей.
Зернышко неловко водила лепешкой по тарелке, она ничего не видела и не ходила в школу. Мы включали ей записи разных уроков на компьютере. Врач сказал, что она не чувствует даже свет. Это роднило ее с бабушкой, медленно теряющей зрение. Зернышко привели к нам с улицы, где она просила подаяние и пела. Она долго боялась взрослых до судорог, которые электричеством пронзали маленькое нездоровое тельце. В ней не было ни детской очаровательности, ни живости, которая делает даже некрасивых детей милыми. Только голос, случайно спрятанный в неказистое соединении косточек и кожи цвета корицы. Вечерами, когда уроки были приготовлены, девочки сдвигали свои матрасы полукругом, как в театре, и слушали ее песни. Она хорошо запоминала любые песни даже на чужих языках, подражала голосам артистов.
Будто на что-то новое, Песчинка смотрела на птиц, которые ждали крошек на перилах балкона. Песчинку украли у настоящих родителей. Бандиты из агентства передали ее в усыновление иностранцам за хорошие деньги. Когда Песчинка заговорила на английском и смогла рассказать приемным родителям правду, они подумали и вернули ее к нам, в родную страну. Несмотря на свои расходы, год, потраченный на оформление бумаг, они хотели, чтоб девочка жила с настоящей мамой. Временно ее поместили к нам. Они поступили хорошо, но мы не смогли найти ее семью. Песчинка ничего не помнила, даже не знала, из какого она штата, как называлась ее деревня. Знала только большое дерево, внутри которого жила красная богиня.
Пылинку я сама нашла в автобусе. Она ходила вдоль сидений, часто-часто подносила ко рту сжатые в щепотку пальцы. Некоторые люди давали ей несколько монет, другие кричали: «Эй, отстань от меня!», «Уйди, от тебя несет испражнением козы». Собранные в автобусах и пригородных поездах деньги она отдавала главарю уличной шайки бездомных детей (дети чаще всего держатся стаями). Ее трудно было отыскать под слоем грязи. Не девочка – сгусток из спутанных волос, пыли, копоти и нагара уличных жаровен. Нельзя было разобрать, что за лохмотья на ней одеты. Я пропустила колледж в тот день, отмывала ее от зловоний тупиков. Она стала лучшей нашей ученицей, «сверкающим табелем», как говорил папа. Мы полагали, что родители ее были беженцами со Шри-Ланки. В ее коже цвета финика, крупных чертах лица, курчавых волосах сквозила цейлонская кровь. Но Пылинка тоже ничего о себе не знала. Улицы стирали детям память.
Бисеринка ползала, привставала, опираясь на ноги девочек. Девочки скатывали шарики еды, клали ей в рот. Ее мы тоже брать не хотели. Мы устали, измучились с младенцами. Наши выросли, ходили в школу, умели сами одеваться, есть, читать. Начинать все заново казалось самоубийством. «Тетя, я не могу вернуться с ней домой, – твердил исцарапанный мальчишка, – отчим меня побьет. Тетя, или забирайте ее, или я положу ее возле Бэя, как отчим сказал». Бабушка посмотрела одним глазом, взяла голого ребенка и отнесла в Башню. С ней оказалось легче, чем с другими. Девочки носили ее по очереди на бедрах, возились с ней. Она любила играть баночками из-под гуаши. Она пересекала комнату, как улитка, оставляя на полу влажный след.
Другие девочки, также взявшиеся из воздуха, ели, громко жевали, хихикали или смотрели в одну точку с набитым ртом. Шестые или седьмые дочери в своих семьях, они были подброшены или сданы нам очень бедными людьми.
Их несли люди берега, люди из прижатых к станциям кварталов с домами-сотами, люди из несуществующих теперь, разрушенных экскаваторами лачуг. Только однажды к Башне подъехала дорогая машина. Молодая женщина, в европейском льняном костюме с другой женщиной постарше, наверное, служанкой, вынесли ребенка. «Я не могу оставить ее у себя, у меня нет мужа, а она нелегальный ребенок. Мне сказали, ваш приют очень хороший приют для девочек». Служанка передала нам нарядного младенца, как блюдо с паясамом[21 - Паясам – тамильский пудинг, консистенции густого киселя.], и они уехали. В тот же день кто-то перевел на счет приюта тридцать тысяч рупий. Переводы с неизвестного счета поступали раз в три месяца, потом оборвались. Внезапно, как и все, что случалось в Башне.
* * *
Эсхиту и Собару привезли к нам из другого детского дома. Это было плохое место, темное место без Бога. Каждую ночь туда приходили мужчины.
Собара плакала бесшумно, одними глазами. Я села с ней на матрасе. Она сказала:
– Я хочу отмыться, хочу, чтоб вода смыла мой грех. Сначала нам давали снотворное, мы просыпались с болью везде-везде, – и она провела руками по пухлым ногам и бедрам. – Потом нам перестали давать снотворное, и мы видели их лица, вот так, – она поднесла ладонь к прямому красивому носу, – как медленно возвращалось по утрам солнце!
– В этом нет твоего греха, – ответила я. – Вода смывает все, но ты давно уже чиста, никакой грязи на тебе не было.
Собара болела стыдом и не могла жить. Эсхита была другой. Она не горевала. В ее вытянутом вперед лице, во взгляде было что-то от циветты, что забрела на городскую окраину поохотиться на крыс, порыться в ящиках. Я очень старалась не замечать ее плотоядной мордочки, относиться к ней как к ребенку. Но не могла избавиться от мысли о беззаботной хищнице, которую инстинкты ведут черт знает куда.
Я чувствовала, что Эсхита сбежит. Она ссорила девочек, устраивала драки в спальне. Конечно, там было тесно, неловко. Вещи висели на прибитых к стене рейках, матрасы с утра сгребали в шаткую гору. Ни у кого не было своего угла. Все вместе: сон, уроки, игры. Но до Эсхиты девочки жили в мире, они берегли свое некрасивое убежище, как взрослые хозяйки.
С ней начались кровавые свалки, в ход пошли ножницы, навесные замки, палки. Девочки превратились в диких обезьян. Они грызлись зубами, драли друг другу волосы и одежду, хрипло кричали грязные оскорбления, которым научились в подворотнях. Среди этих слов самыми безобидными были: «бычья сперма», «жирная вагина», «грязь вокруг рта» и «твоя мать была плешивой собакой».
– Эсхита, ведь мы здесь одна семья. Разве плохо тебе у нас? Разве лучше было там, в твоем старом доме?
– Бог благословит тебя, старшая сестра! Мы пойдем в город работать на швейную фабрику.
– Иди подальше от больших дорог. Там молодая женщина может попасть в плохую беду. – Акка покачала головой. – Когда придешь в город, говори только со старыми людьми. Пусть они скажут тебе, где фабрика. В городе спрашивай много раз, чтобы тебя не обманули. Не показывай им свои деньги, а если захочешь купить чаю, заранее достань немного денег в стороне.
Так сказала акка, и все ушли. Мы еще долго сидели в пустом поле и смотрели: люди идут, катят свои тележки, полные тряпок. Мы смотрели и смотрели, пока люди не стали маленькими, как богомолы.
Грейс
Любовь родилась в бедрах ночью, когда из всех цветов тек черный аромат. Я встала на рассвете, смотрела на перламутровый Бэй, на неподвижные лодки, темные силуэты грузовиков вдоль пляжа. На проводах спали маленькие голуби, что умеют смеяться и кричать как петухи. Любовь наполняла воздух мучительным наслаждением, разливала золотистое масло по краю неба. Я еще не знала своего любимого, но уже любила его.
Бабушка и наша горничная Чарита стучали посудой в кухне. Я обмотала волосы платком и пошла к ним.
Кухня напоминала картины Санджая Бхаттачарьи, полные гипнотических деталей, пара, света и теней. Чарита с блестящим от пота лицом держала щипцами лепешки над газом, они раздувались от горячего воздуха, становились пышными. В седых волосах на висках бабушки скопилась испарина. Бабушка жарила требуху с луком в огромной сковороде. Внутренности кур отдавали трущобой Ноччикупам, где Чарита брала их у торговца.
Бабушка посмотрела на меня единственным глазом. Второй, голубовато-белый, лежал мертвым под прикрытым веком. Из-за этого глаза лицо бабушки всегда казалось строгим и мученическим.
– Порежь овощи, свари лапшу и яйца.
Я поставила чаны с водой, достала сорок упаковок лапши. Осторожно одно за другим погрузила в воду тридцать пять яиц – как сварятся, нужно разрезать пополам, чтоб казалось больше. Мне снова, как ночью, стало страшно из-за того, что продуктов так мало и наш мир убывает.
Я вытянулась над платформой для готовки еды, чтоб взглянуть на небо через решетку окна: оно уже засияло над квадратом глубокого двора-колодца, куда смотрели все кухни Башни. Некоторые женщины стояли у плит, но большинство кухонь были еще пусты, хозяйки спали, а служанки не пришли. Я снова вспомнила, что у меня теперь есть любовь, она везде. Ей тесно во дворе-колодце, она вспорхнула и летит.
Я чистила яйца, обжигаясь, слышала шаги папы. Папа включил радио, и оно затрещало, заговорило о выборах в корпорацию[20 - Ченнаем управляет Большая корпорация (бывшая «Корпорация Мадрас»), основанная в 1688 году. Это самая старая из сохранившихся муниципальных корпораций в Индии и вторая самая старая в мире. Корпорацию возглавляет мэр. Мэр и советники города избираются населением путем всеобщего голосования.]. «Только проснешься, начинается политика», – подумала я вскользь. В уши приливом ударили голоса девочек. Они поднимались на завтрак.
* * *
У нас не было квартиры, в которой мы могли бы жить все вместе. Только рассыпанные по Башне комнаты, перемешанные с квартирами соседей, как лук с нутом. Я спала в закутке возле кухни и гостиной.
В гостиной мы ели, молились, сушили вещи, из нее выбегали на балкон посмотреть, что происходит на улице Сантхомхай. Мы никогда не закрывали эту гостиную, она была продолжением общего коридора.
В конце коридора, как в другом квартале, ютились папина и бабушкина спальни и еще комнатушка с деревянной мебелью, укрытой вязаными накидками, маминым резным креслом с истертой от времени клетчатой подкладкой, телевизором, по которому стучали, чтоб он заработал. В узкое окно той комнаты печальными глазами смотрела трущоба Ноччикупам.
Я привыкла к Башне и не знала другого дома, хотя она стенами цвета сухой крови напоминала темную гору с пробитыми внутри пещерами. Внутри комнат-пещер ужас кое-как прикрывался уютом человеческих вещей: ламп, покрывал, календарей с водопадами.
Кто-то еще кроме людей обитал в широких коридорах, в лифте с решеткой, на которой дрожали от сквозняка клочья паутины. Механизмы в шахте скрипели даже ночью. Этот лифт никогда не приходил на нужный этаж.
В детстве мне часто виделось, что соседи меняют лица, меня пугали внутренние дворы с мутными окнами кухонь, особенно когда с Бэя шла непогода. В эти дворы невозможно было войти, только если вылезти из окна, и я не понимала, для чего и для кого они построены. На дне их копился мусор, как в канале возле дома тетушки в Калачале.
Маленькой я слушала, как кто-то лазит в пространстве между стен, во всех ходах, вентиляциях, которыми прошита Башня. Хотя рядом жили папа, бабушка, девочки, я была жалкой перед миром, слабее пыли. Мир даже днем подходил к самому моему уху сгустком кошмара.
* * *
Девочки жили этажом ниже нашего в комнате, разгороженной шкафом. Поднимаясь, они ворковали, как голубицы. Мои сестры, мои дочери.
Хотя, возможно, я думаю о них так сейчас из-за тоски по тем дням. Тогда я не думала ничего. Протирала подносы, резала яйца. Через пару часов я должна была снова встать к плите, чтобы варить обед.
Мои девочки, лохматые и не прибранные, возились на полу, смеялись и кушали. Вся комната походила на коробку со щенками, которым не интересно лежать на лоскутной подстилке. Но все замирали, когда папа складывал руки у груди. Губы детей повторяли за папой. Только самая маленькая, Бисеринка, возилась и ползала, как улитка, оставляя за собой влажный след.
В утро, когда ко мне пришла любовь, папа выбрал ту же молитву, что и я, проснувшись. Слова ее придумали монахи, которые везли по морю к южноиндийским берегам Благую весть. Монахи заблудились в водовороте бури, метались среди исполинских волн, как в бушующем лесу. Они стали молиться Матери Божьей, и внезапный таинственный свет привел их к земле.
– Владычица света, рассеивающая тьму, просим твоей помощи в нашей нужде. Звезда морей, чей маяк спасает тех, кого швыряет буря жизни, даруй нам свое утешение, – произносили мы хором. Я сидела в углу, сжимая поднос пальцами со сломанными ногтями. Сейчас я думаю, мы читали эту молитву не для Бога, а друг для друга. Мы произносили слова вместе, соединяя наши души.
– Аминь, – говорил отец голосом епископа.
– Аминь, – говорили девочки.
Ела я мало, смотрела, как они едят, будут ли сыты перед школой.
* * *
Исподтишка глядела на всех Крупинка, миловидная девчонка с длинными, до колен, волосами, ясно – она уже что-то сотворила. Может быть, переменила тетради в сумках у подруг, связала лямки школьных юбок, насыпала муравьев в коробку с заколками. Один раз она засунула живую рыбу в портфель к одной из Двух Хлебов. Крупинку младенцем мать бросила в водосток. Она застряла в ветках и траве, что скопились по течению. Соседка услышала плач, выловила ее из плотины, отнесла к нам.
Два Хлеба уплетали с одного подноса руками, занося еду в рот друг другу, как двухголовое многорукое существо. Отец не хотел их забирать, они были два недозрелых птенца с голой желтоватой кожей. Он не верил, что они выживут, невесомые, словно лепешки. Отец не хотел их забирать, ведь их мать жива. Но она приносила близнецов к нам снова и снова, каждый день. «Хватит, возьми их, – сказала тогда бабушка. – Господь нас не оставит». Мы отвезли близнецов в частный госпиталь, там они долго лежали в пластиковых ящиках с приклеенными на пластырь трубками в носу. Смерть склонилась над их колыбелью, гладила их по головкам. Они смотрели на смерть и набирали сил из всего, что кружилось вокруг. Они пили силы из мимолетных взглядов медсестер, воздуха, солнечных лучей. Потом дома мы выхаживали их на козьем молоке с рынка. Та женщина, их мать, жила где-то рядом, в прибрежных трущобах. Я встречала ее в лавках с другими детьми. Она всегда смотрела сквозь меня, шумно и быстро покупала муку или рис, исчезала в потоке улицы. Она не приходила навещать близнецов.
Шелкопряд ела так же ловко и жадно, как остальные, хотя ее ручке недоставало трех пальцев, потерянных на фабрике. Ее и Лучика в разные дни привезли нам из Канчипурама, где дети ткут лучшее во всем мире сари.
В новенькой Лучике была тишина дневного света. Она могла весь день просидеть за тамариндами у забора. Мы думали, Лучик немая, но по ночам она кричала, звала навзрыд маму, будила других детей.
Зернышко неловко водила лепешкой по тарелке, она ничего не видела и не ходила в школу. Мы включали ей записи разных уроков на компьютере. Врач сказал, что она не чувствует даже свет. Это роднило ее с бабушкой, медленно теряющей зрение. Зернышко привели к нам с улицы, где она просила подаяние и пела. Она долго боялась взрослых до судорог, которые электричеством пронзали маленькое нездоровое тельце. В ней не было ни детской очаровательности, ни живости, которая делает даже некрасивых детей милыми. Только голос, случайно спрятанный в неказистое соединении косточек и кожи цвета корицы. Вечерами, когда уроки были приготовлены, девочки сдвигали свои матрасы полукругом, как в театре, и слушали ее песни. Она хорошо запоминала любые песни даже на чужих языках, подражала голосам артистов.
Будто на что-то новое, Песчинка смотрела на птиц, которые ждали крошек на перилах балкона. Песчинку украли у настоящих родителей. Бандиты из агентства передали ее в усыновление иностранцам за хорошие деньги. Когда Песчинка заговорила на английском и смогла рассказать приемным родителям правду, они подумали и вернули ее к нам, в родную страну. Несмотря на свои расходы, год, потраченный на оформление бумаг, они хотели, чтоб девочка жила с настоящей мамой. Временно ее поместили к нам. Они поступили хорошо, но мы не смогли найти ее семью. Песчинка ничего не помнила, даже не знала, из какого она штата, как называлась ее деревня. Знала только большое дерево, внутри которого жила красная богиня.
Пылинку я сама нашла в автобусе. Она ходила вдоль сидений, часто-часто подносила ко рту сжатые в щепотку пальцы. Некоторые люди давали ей несколько монет, другие кричали: «Эй, отстань от меня!», «Уйди, от тебя несет испражнением козы». Собранные в автобусах и пригородных поездах деньги она отдавала главарю уличной шайки бездомных детей (дети чаще всего держатся стаями). Ее трудно было отыскать под слоем грязи. Не девочка – сгусток из спутанных волос, пыли, копоти и нагара уличных жаровен. Нельзя было разобрать, что за лохмотья на ней одеты. Я пропустила колледж в тот день, отмывала ее от зловоний тупиков. Она стала лучшей нашей ученицей, «сверкающим табелем», как говорил папа. Мы полагали, что родители ее были беженцами со Шри-Ланки. В ее коже цвета финика, крупных чертах лица, курчавых волосах сквозила цейлонская кровь. Но Пылинка тоже ничего о себе не знала. Улицы стирали детям память.
Бисеринка ползала, привставала, опираясь на ноги девочек. Девочки скатывали шарики еды, клали ей в рот. Ее мы тоже брать не хотели. Мы устали, измучились с младенцами. Наши выросли, ходили в школу, умели сами одеваться, есть, читать. Начинать все заново казалось самоубийством. «Тетя, я не могу вернуться с ней домой, – твердил исцарапанный мальчишка, – отчим меня побьет. Тетя, или забирайте ее, или я положу ее возле Бэя, как отчим сказал». Бабушка посмотрела одним глазом, взяла голого ребенка и отнесла в Башню. С ней оказалось легче, чем с другими. Девочки носили ее по очереди на бедрах, возились с ней. Она любила играть баночками из-под гуаши. Она пересекала комнату, как улитка, оставляя на полу влажный след.
Другие девочки, также взявшиеся из воздуха, ели, громко жевали, хихикали или смотрели в одну точку с набитым ртом. Шестые или седьмые дочери в своих семьях, они были подброшены или сданы нам очень бедными людьми.
Их несли люди берега, люди из прижатых к станциям кварталов с домами-сотами, люди из несуществующих теперь, разрушенных экскаваторами лачуг. Только однажды к Башне подъехала дорогая машина. Молодая женщина, в европейском льняном костюме с другой женщиной постарше, наверное, служанкой, вынесли ребенка. «Я не могу оставить ее у себя, у меня нет мужа, а она нелегальный ребенок. Мне сказали, ваш приют очень хороший приют для девочек». Служанка передала нам нарядного младенца, как блюдо с паясамом[21 - Паясам – тамильский пудинг, консистенции густого киселя.], и они уехали. В тот же день кто-то перевел на счет приюта тридцать тысяч рупий. Переводы с неизвестного счета поступали раз в три месяца, потом оборвались. Внезапно, как и все, что случалось в Башне.
* * *
Эсхиту и Собару привезли к нам из другого детского дома. Это было плохое место, темное место без Бога. Каждую ночь туда приходили мужчины.
Собара плакала бесшумно, одними глазами. Я села с ней на матрасе. Она сказала:
– Я хочу отмыться, хочу, чтоб вода смыла мой грех. Сначала нам давали снотворное, мы просыпались с болью везде-везде, – и она провела руками по пухлым ногам и бедрам. – Потом нам перестали давать снотворное, и мы видели их лица, вот так, – она поднесла ладонь к прямому красивому носу, – как медленно возвращалось по утрам солнце!
– В этом нет твоего греха, – ответила я. – Вода смывает все, но ты давно уже чиста, никакой грязи на тебе не было.
Собара болела стыдом и не могла жить. Эсхита была другой. Она не горевала. В ее вытянутом вперед лице, во взгляде было что-то от циветты, что забрела на городскую окраину поохотиться на крыс, порыться в ящиках. Я очень старалась не замечать ее плотоядной мордочки, относиться к ней как к ребенку. Но не могла избавиться от мысли о беззаботной хищнице, которую инстинкты ведут черт знает куда.
Я чувствовала, что Эсхита сбежит. Она ссорила девочек, устраивала драки в спальне. Конечно, там было тесно, неловко. Вещи висели на прибитых к стене рейках, матрасы с утра сгребали в шаткую гору. Ни у кого не было своего угла. Все вместе: сон, уроки, игры. Но до Эсхиты девочки жили в мире, они берегли свое некрасивое убежище, как взрослые хозяйки.
С ней начались кровавые свалки, в ход пошли ножницы, навесные замки, палки. Девочки превратились в диких обезьян. Они грызлись зубами, драли друг другу волосы и одежду, хрипло кричали грязные оскорбления, которым научились в подворотнях. Среди этих слов самыми безобидными были: «бычья сперма», «жирная вагина», «грязь вокруг рта» и «твоя мать была плешивой собакой».
– Эсхита, ведь мы здесь одна семья. Разве плохо тебе у нас? Разве лучше было там, в твоем старом доме?