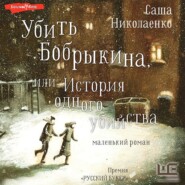По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравьиный бог: реквием
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жара не отпускала.
Скатали одеяла, укрылись простынями, но под ними безбожно ело комарьё, влетавшее сквозь сеть оконной марли, и вонь одеколона «Красная Москва», какой она пыталась кровопийцам нюх отбить, жила в носу, ходила шлейфом. Покойник за стеной чихал.
– Будь жив, Данил! Христось тябя храни…
– А-а-апчхи!
– Ну всё, наладил. Один не гость в похороны?.
Данило Алексеич, как при жизни, чихал по многу раз, то шесть чихнёт, то семь, и ждали, сколько раз, считали, бывало даже десять насчитать. Рекорд.
– А-а-апчхи!
– Ой, божички мои…
– А-а-апчхи!
– Чихнёть – не соберёшь соборовать…
И, отчихавшись, всё бубнил, стонал, расчёсывая в кровь укус под левый бок живой рукой, и, пригрозив «живую руку к спу?дням примотать», она сквозь сон из-за стены просила:
– Данило, слышишь, не чеши, и так живьём гниёшь, Данило, слышь? Вот за верёвкой-то схожу, де воли чёрту неть, там ангельчик подуить…
Кулак тянулся в бок, и пальцы соскребали подсыхающий расчёс.
– До мяса чешеть, силы нет мои, смотри, што он с собой творит… да что? Ну, что? хоть удави тебя, ни мучай, осподи помилуй… и жизь штрашна, и штрашно помирать…
Грозя, чертя, крестя, целуя, она над дедушкой с заваром подорожного листа обмазывала страшные места, сушила в корочку намаз журналом, мамы феном, когда хватало сил в ночи за удлинитель провод от веранды протянуть, обматывая с утра тело коконом в лопух. Лопух ссыхал за день, вбирая хвори из мощей, подав покойника к стене, листы снимали, выносили хвори за калитку или в бочке жгли…
– Чего ты, баб, всё лопухом, как голубец его…
– Лопух – осподне ухо, все хвори вслушает в сябя.
Про это папа говорил всегда: мура.
– И дал чуму и мор, и дал лекарство, и всякое лекарство из земли.
И язвы мазала землицей на слюньке?, прижав лопух, вздыхала:
– Ничаво, кромешный, подживёшь, ище нас всех переживёшь… Данило, слышь? Петровой свадьбой погуляшь, сё жизь-то шмерти краше, а? Какая ни кака…
И Дергуновой, сидя лавочкой под окнами пустой, вздыхая, говорила:
– Што ты, Зина… не приведи осподь живым во хробе тлеть…
Собаки выли на большую красную луну; к утру в окне опять квадратное стояло солнце. Крыжовник запаршивел, сох на ветках, как изюм, мучнистая роса белёсой плесенью кропила пле?тень виноградный, заржавившие листья кочанов.
– Ну, пекло, будь оно неладно, в аду так черти коммунистов не пекуть…
Покойник не хотел, чтоб гадости она про коммунистов, про страну, и в стену молотил, кулак сшибая боем, ругаясь, растирал по свежим простыням кровя?, и, взяв в коробочке медальной партбилет, она несла ему, в кулак затиснув, говорила:
– Кряпчей держи свой пропуск в рай, Данило, хляди, архангелы границей отберуть…
И дед держал билет и плакал.
– Петрушка, шланг с тропинки убери, как змиев хвость ляжить: споткнётся баба, шею сломлет, не дождёшься…
Он брёл, забрасывая в клумбы шланг, ссыпая пёстрым бело-розовым ковром душистые пионы…
– Цветов мне не губи, палач.
– Сама ты…
– Што сказал-т?
– Я, ба, гулять…
– В воду? ни лазь, холерной палочкой идёть с Москвы, по радио сказали, уха в канале, рыба дохнить, слышь?
– Да слышу…
– Пакет возьми – мне зверобою набери.
Он сдёрнул на верёвке сохнувший пакет, прищепка пулей отлетела в сточную канаву, в канаву эту она прищепки посылала собирать потом, когда от них верёвка поредеет, и он бродил нейтральной полосой с корзинкой, искал в траве прищепки, как грибы.
– Моя корзинка, баб, мне папа подарил…
– И што – твоя? Твоя – гвоздём при вениках висеть, труху копить?
– Грибы чтоб собирать.
– Грибы… В моих ногах могилы бы дойти.
– К могиле, ба, в гробу несут.
– С тобой сама дойду.
– Я, ба, тогда один схожу…
– Сходи. Один сходил уже.
– Чего сходил?
– А вон на Павлова у родника загрызли ходока.
– Русалки, ба?
Она крыжовину сорвала, разжевала, сказала, выминая жмых под языком:
Скатали одеяла, укрылись простынями, но под ними безбожно ело комарьё, влетавшее сквозь сеть оконной марли, и вонь одеколона «Красная Москва», какой она пыталась кровопийцам нюх отбить, жила в носу, ходила шлейфом. Покойник за стеной чихал.
– Будь жив, Данил! Христось тябя храни…
– А-а-апчхи!
– Ну всё, наладил. Один не гость в похороны?.
Данило Алексеич, как при жизни, чихал по многу раз, то шесть чихнёт, то семь, и ждали, сколько раз, считали, бывало даже десять насчитать. Рекорд.
– А-а-апчхи!
– Ой, божички мои…
– А-а-апчхи!
– Чихнёть – не соберёшь соборовать…
И, отчихавшись, всё бубнил, стонал, расчёсывая в кровь укус под левый бок живой рукой, и, пригрозив «живую руку к спу?дням примотать», она сквозь сон из-за стены просила:
– Данило, слышишь, не чеши, и так живьём гниёшь, Данило, слышь? Вот за верёвкой-то схожу, де воли чёрту неть, там ангельчик подуить…
Кулак тянулся в бок, и пальцы соскребали подсыхающий расчёс.
– До мяса чешеть, силы нет мои, смотри, што он с собой творит… да что? Ну, что? хоть удави тебя, ни мучай, осподи помилуй… и жизь штрашна, и штрашно помирать…
Грозя, чертя, крестя, целуя, она над дедушкой с заваром подорожного листа обмазывала страшные места, сушила в корочку намаз журналом, мамы феном, когда хватало сил в ночи за удлинитель провод от веранды протянуть, обматывая с утра тело коконом в лопух. Лопух ссыхал за день, вбирая хвори из мощей, подав покойника к стене, листы снимали, выносили хвори за калитку или в бочке жгли…
– Чего ты, баб, всё лопухом, как голубец его…
– Лопух – осподне ухо, все хвори вслушает в сябя.
Про это папа говорил всегда: мура.
– И дал чуму и мор, и дал лекарство, и всякое лекарство из земли.
И язвы мазала землицей на слюньке?, прижав лопух, вздыхала:
– Ничаво, кромешный, подживёшь, ище нас всех переживёшь… Данило, слышь? Петровой свадьбой погуляшь, сё жизь-то шмерти краше, а? Какая ни кака…
И Дергуновой, сидя лавочкой под окнами пустой, вздыхая, говорила:
– Што ты, Зина… не приведи осподь живым во хробе тлеть…
Собаки выли на большую красную луну; к утру в окне опять квадратное стояло солнце. Крыжовник запаршивел, сох на ветках, как изюм, мучнистая роса белёсой плесенью кропила пле?тень виноградный, заржавившие листья кочанов.
– Ну, пекло, будь оно неладно, в аду так черти коммунистов не пекуть…
Покойник не хотел, чтоб гадости она про коммунистов, про страну, и в стену молотил, кулак сшибая боем, ругаясь, растирал по свежим простыням кровя?, и, взяв в коробочке медальной партбилет, она несла ему, в кулак затиснув, говорила:
– Кряпчей держи свой пропуск в рай, Данило, хляди, архангелы границей отберуть…
И дед держал билет и плакал.
– Петрушка, шланг с тропинки убери, как змиев хвость ляжить: споткнётся баба, шею сломлет, не дождёшься…
Он брёл, забрасывая в клумбы шланг, ссыпая пёстрым бело-розовым ковром душистые пионы…
– Цветов мне не губи, палач.
– Сама ты…
– Што сказал-т?
– Я, ба, гулять…
– В воду? ни лазь, холерной палочкой идёть с Москвы, по радио сказали, уха в канале, рыба дохнить, слышь?
– Да слышу…
– Пакет возьми – мне зверобою набери.
Он сдёрнул на верёвке сохнувший пакет, прищепка пулей отлетела в сточную канаву, в канаву эту она прищепки посылала собирать потом, когда от них верёвка поредеет, и он бродил нейтральной полосой с корзинкой, искал в траве прищепки, как грибы.
– Моя корзинка, баб, мне папа подарил…
– И што – твоя? Твоя – гвоздём при вениках висеть, труху копить?
– Грибы чтоб собирать.
– Грибы… В моих ногах могилы бы дойти.
– К могиле, ба, в гробу несут.
– С тобой сама дойду.
– Я, ба, тогда один схожу…
– Сходи. Один сходил уже.
– Чего сходил?
– А вон на Павлова у родника загрызли ходока.
– Русалки, ба?
Она крыжовину сорвала, разжевала, сказала, выминая жмых под языком: