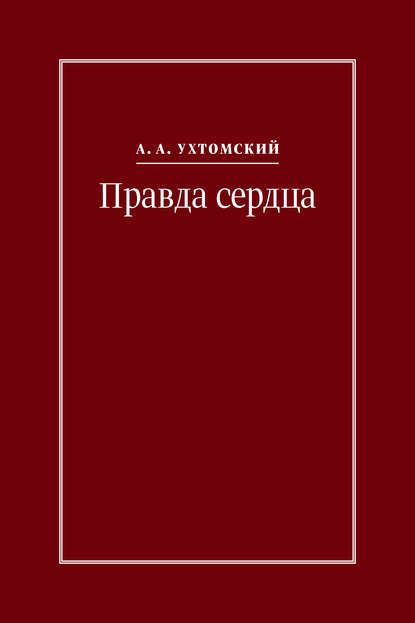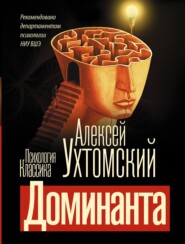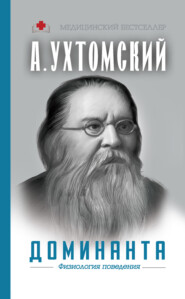По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правда сердца. Письма к В. А. Платоновой (1906–1942)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В такой обстановке письма в Калугу служили Алексею Алексеевичу целительной душевной разрядкой. Из отправленных им в 1937 году известны два: от 6–7 апреля и от 12 декабря, письмо, адресованное Клавдии Михайловне Сержпинской, ближайшей подруге Варвары Александровны, подписанное именем, взятым из родового древа – А. Сугорский.
Весной 1938 года Алексей Алексеевич привычно ссылался на усталость, «надрывы памяти», не строил планов на лето, говорил лишь о предчувствиях, «большей частью нерадостных», и вновь тревожился, что «насиженные места придется оставлять».
Самое же огорчительное – его, к несчастью, стали посещать навязчивые дурные настроения, вызванные «внутренним трением сложной человеческой каши, через которую лежит путь». «Одна из несомненных больных линий в нашей жизни, – писал он, – подозрительность. Я ее терпеть не могу, и всегда был рад тому, что мог себя считать свободным от нее. В людях, с которыми приходилось встречаться, я видел в особенности их добрые черты, а отрицательные отводил в сторону. И это помогало завязывать добрые отношения. Теперь я начинаю все чаще видеть в себе именно подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей».
Душевный разлад удручает Алексея Алексеевича, он просит у калужан прощения за редкие ответы, – это не от лени и «произвола», а потому, что в «отягощенном состоянии внутреннего человека» беседы не беседуются.
В письмах 1940 года Алексей Алексеевич продолжал летать «в шапке-невидимке» в калужский уютный домик, в тихую комнату под абажуром и прикасаться к спасительному миру, призывая друзей «пободрее идти нашими дорогами». Противясь унынию, он писал: «Старики никому не нужны по тем обычаям, которые входят в силу. Поэтому не скажешь, найдется ли угол, где возможно было бы видеть покой и хоть частичное безмолвие напоследях, – а они нужны, чтобы собраться с мыслями и силами! Впрочем, говорить по этим направлениям – значит так или иначе малодушничать…»
Ухтомский сообщал калужанам, что располагает достоверными данными – все его почтовые отправления «регистрируются в любознательных учреждениях». «Я живу в последние месяцы, – признавался он в феврале 1940 года, – разными предвидениями испытаний и перемен, от которых Господь пока отводит, но которые все-таки часто и твердо напоминают о себе. Очень много врагов, сознательных и несознательных, оказывается за последнее время».
А через год грянула Отечественная война.
С августа 1941-го до июня 1942 года Алексею Алексеевичу и Варваре Александровне не удавалось «перекликнуться словом», а в июне он сообщил ей, что был счастлив, получив ее письмо, что он «болен и слаб от ноги, которая делает его калекою, и от пищевода, который дурно пропускает пищу».
Он с профессиональным хладнокровием оценивал свое состояние и в июле 1942 года писал Варваре Александровне: «А мне вот стукнуло 67 лет! Срок по нашей семье очень большой. За то и немощи начались, как в старом доме: не успеваешь заметить, где садится сруб на землю, где перекосило угол и стену, а где сдают балки!»
В последний раз он обращался к ней 22 июля 1942 года: «Вчера получил Ваше письмо, добрый мой друг, и сегодня, в Магдалинин день, пишу, чтобы не откладывать. Очень ждал я Ваших строк, как Вы наверно чувствуете, там вдали…» Алексей Алексеевич утешал Варвару Александровну: болезнь пищевода не злокачественная, – хотя сам, думается, не питал уже никаких иллюзий. «Иногда я ем и тогда несколько подкрепляюсь, – рассказывал он в своем прощальном письме, – а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею. Возраст мой для нашей семьи большой и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жесткими для отечества и народа днями! Так нужны сейчас все силы… Простите и помните Вашего преданного А. У.»
31 августа 1942 года Алексей Алексеевич Ухтомский скончался.
И. Кузьмичев
Правда сердца
Письма к В. А. Платоновой (1906–1942)
1
Дорогой друг, я не могу больше к Вам ходить, потому что мне тем противнее и безобразнее кажется хотя бы один намек на «получение каких-то прав над Вами», чем больше я Вас люблю. Понимаете ли, что чем больше любит Вас моя главная личность, тем больше она отворачивается с ужасом от другой, скверной моей личности, тем больше хочет предостеречь Вас от нее. В этом великая скорбь для меня, но раскол душевный постоянно уже давно.
Тяжело это и смертельно тяжело потому, что что бы я ни делал и ни писал доброго, хорошего, у меня чувство такое, что делаю и пишу для Вас. А между тем не могу дать Вам знать об этом, ибо от того, скверного человека, нижней моей личности, убежать не могу.
Скорбит душа моя до смерти! Господи, ведь Ты-то все можешь сделать. В Тебе мы сосредотачиваем наше всемогущество. Соедини Ты нас, если можно, во славу Твою, в Тебе самом…
2
Многоуважаемая Варвара Александровна, очень мне грустно, что не могу воспользоваться Вашим добрым приглашением на это воскресенье. Хотя я уезжаю только в Успеньев день, но меня удерживают эти дни в Петербурге отчасти некоторые спешные дела, которые надо сделать до отъезда, главное же, весьма тяжелое настроение под влиянием рыбинских известий и в предвкушении тамошних впечатлений, – настроение, которым могу быть только в тягость всем вам. Помимо глупых дрязг в моем доме, отнимающих последний покой у бедной сестры Лизы, какая-то глупая и злая судьба делает так, что Лиза с болезнью мужа должна опять встать в зависимость от бездушной, безгранично эгоистической матери. И мало того, что, с постепенным умиранием мужа, у Лизы рушится все «свое» и «любимое», у нее пропадает теперь и то «родное», что казалось ей таким до замужества. Мать теперь решительно отталкивает Лизу от себя и не хочет ее видеть, злобствуя за ее якобы участие в ненавистном для княгини сватовстве сестры – Марьи.
Вот она где – тупая и слепая злоба проклятого мещанского миросозерцания! «Дух глухий и немый», которого не побеждают не только жалкие попытки социалистов, но и сам Христос.
Впрочем, я хотел писать не о том, а хотел обратиться к Вам с покорнейшей просьбой: если можно, – не устраивайте, пожалуйста, до меня хоругвий, о которых говорили в последний раз. У меня будет свободное время после 1 сентября, когда надеюсь вернуться в Петербург, и тогда мне хотелось бы спроектировать и обработать хоругви посерьезнее.
Если это дело не очень спешное, то сделайте так, пожалуйста. Эта работа была бы для меня очень приятною, и я на ней отдохнул бы.
Мой искренний привет всем Вашим.
Преданный А. Ухтомский
3
«Если, говоря людям, заденешь словом своим общее всем, тайно и глубоко погруженное в душе каждого истинно человеческое, то из глаз людей истекает лучистая сила, насыщает тебя и возносит выше их. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрылен ты скрещением в душе твоей всех сил, извне обнявших тебя, крепких силою, кою люди воплотили в тебе на сей час; разойдутся они, разрушится их дух, и снова ты ровен каждому…» «Невозможно исчислить разнообразие людей и выразить радость при виде духовного единства всех их…» «Жалко их, и жалко силу веры, распыленную в воздухе…» «Схватили меня, обняли, и поплыл человек, тая во множестве горячих дыханий. Не было земли под ногами моими, и не было меня, и времени не было тогда, но только радость, необъятная, как небеса. Был я распыленным углем пламенной веры, был незаметен и велик, подобно всем окружавшим меня во время общего полета нашего…» «Ночью я сидел в лесу над озером, снова один, но уже навсегда и неразрывно связанный душою с народом, владыкой и чудотворцем земли».
Вот, матушка моя, сколько я Вам выписал из этой замечательной книги. Повторяю, со стороны художественной, психологической правды она – редкий цветок. Если говорить о философской стороне, тут будет много спору. Сейчас я не буду говорить об этой стороне. Во всяком случае, и тут, с моей точки зрения, автор чрезвычайно близок к правде. Выписки мои дадут Вам, конечно, только конспект того, как идет душевная жизнь рассказчика. Прочтите-ка книгу-то!
Мне думается, что Вы поймете из нее лучше, чем из моих слов, и то, что так меня привлекает в народной вере и церкви <…> не в той вере и церкви, которую обделали по-своему, на свой вкус и потребу «белая кость» с попами. Понимаете ли, что во всем пошибе, во всех мелочах господской и поповской церкви сквозит оскорбительная претензия «поднять и облагородить» народную веру и церковь; странная, грубая, невежественная претензия поднять и облагородить то, что выше и благороднее их!
Ищет народ. Хочется быть с народной душой!..
4
Я не помню, писал ли я Вам о моих богословских взглядах, которые хочу я когда-нибудь развить. Кажется, что вкратце писал я Вам об этом.
Теперь мне опять хочется говорить об этом, потому что горьковская «Исповедь» подняла во мне старые мысли.
Кругом нас, в близкой нам окружающей действительности Бога не видно. Мы и все люди – ждем Его, разыскиваем, болеем тем, что в ближайшей действительности Его нет. Его пока все-таки нет. Он – предмет нашего желания и предчувствия, любви, ревности и пр., но Он не есть нечто нам уже данное. Это и значит, что мы веруем в Него, хотя Его еще и нет.
Бог – это центральная идея, с которой носится человек в истории. Вся история – ряды человеческих попыток осуществить Бога. Это стимулирующая, творящая идея истории. Если бегло пройти мыслью через историю Древнего Востока, Египта, Иудеи, Греции и Рима, развитие движения человечества будет сказываться в том, как там и тут осуществлял себе Бога человек, как понимал Его, как «открывался» Он ему. «Каков Бог данного человека или данного момента истории, таков сам человек и момент истории». В истории человек постепенно открывает Бога, и, по словам ап. Павла, «вся тварь с нетерпением ожидает откровения сынов Божиих».
Итак, Бог есть то, чего пока, в ближайшей действительности, еще нет, то, во что, однако, постоянно верует человек, чего ищет, за всемирную историю свою, и что осуществляется в меру веры и разумения человеческого.
По идее церковной письменности, Бог будет постоянной и ближайшей действительностью тогда, когда «царствие Божие приидет в силе»; это значит, что тогда, хотим мы того или не хотим, Бог будет перед нами, – будет настоятельным, судящим нас фактом. До тех пор Бог не стоит перед нами настоятельным фактом, но осуществляется для нас настолько, насколько мы верим и хотим Его осуществления. «Егда Бог яве над станете» – это, по церковной идее, день Страшного Суда. До тех пор Бог не стоит над нами «яве» (явно) и Божия жизнь плодится самим человеком в меру его веры, прозорливости, духовного возраста: «Словом тя проповедавшие пророцы, и делами почеташии, безконечную жизнь приплодиша». Одним словом, принудительности никакой нет, когда человек начинает верить в Бога: вера и истина доселе зависят от воли и свободы человека, следовательно, от качеств самого человека, а не суть дело принуждения. Только потом и постепенно вера и истина осуществляются, оправдываются в силе, т. е. уже в принуждении – хотим мы ее или нет. И очевидно, что пока мир течет так, как течет он до сих пор, никогда элемент человеческой воли и свободы – элемент веры – не будет совсем исключен из его истины. Это, в самом деле, будет страшным переломом и концом теперешнего течения мира, «егда Бог яве надстанете», кончив свободу и осуществив веру человечества. Истина вполне открывается – это нечто страшное для нас; люди мало над этим думают.
Что же из этого следует. Следует, что Бог и истина не есть только греза или «сон души человеческой», созданный для того, чтобы как-нибудь удовлетвориться, как-нибудь забыться от действительности. О нет! В определение истины входит гораздо более то, что она судит, ограничивает, требует, чем то, что она удовлетворяет. Человек творит новое в мире, благовествуя на свой страх Бога миру; но это же новое и судит его. Это и значит, что человек не ограничивается возвращением лишь того, что получил (что было бы простым, пассивным и ленивым «применением к действительности»); но он, на основании действительности, на основании того, что получил, «творит другие пять талантов», вносит их – свои плоды – в мир, и отныне они уже делаются фактом, судящим его и мир, хотят они того или нет. Одним словом, Бог – не субъективная греза души, но – по мере того как человек открывает и осуществляет Его – есть стоящая перед ним и судящая его сила.
Такова, по-моему, природа человеческой веры, истины и знания, такова природа жизни и развития. Это с Духовной Академии и есть моя философская вера, и развить ее – моя надежда. Вы понимаете, как дорого мне было читать у М. Горького столь близкие и родственные понимания! Ужасно дорого чувствовать, что не один ты так думаешь, но есть люди, пришедшие к тому же, к чему пришел ты. И тем более хорошо это, что тут думающим так оказывается М. Горький, искренний и сильный русский человек, говорящий не только сам за себя, но и за момент, переживаемый русским народом.
Вы понимаете, конечно, что все эти понимания и мысли требуют тщательного развития, тщательной обработки. Я потому и не говорю о своих пониманиях, что считаю их совсем не разработанными. Тут еще много неясного! И у Горького бросается в глаза то, что он не освоился со своими пониманиями. У него есть и прямые противоречия себе. Он ведь, например, ярко подчеркивает, что Бог не есть простое «самоудовлетворение» и «самоуспокоение» отчаявшихся, измученных, слабых душ. Бог открывается, по Горькому, лишь свободным и сильным духом. И, с другой стороны, в конце книги выходит как будто, что Бог есть исключительно творение народа. Тут явная неясность. Надо выяснить, какова природа этого «творения народа»…
5
С праздником, добрый друг, Варвара Александровна, с добрым солнечным, летним праздником – Троицыным днем, в который отцы наши в первый раз после Светлого дня преклоняли колена и, проливая на цветы слезы – столько слезинок, сколько было в руках цветиковых лепестков, – возвращались к обычному течению страдного, природного года. Пред прощанием с уходящим до будущего года Великим Праздником они, наши старики, – склонившись на цветы, вспоминали отшедших отцов и предков своих, раньше них прошедших жизненную страду. Вспоминал и я сегодня, на троицыных цветах, отшедших моих и Ваших: тетю Анну, отца, дедов, отца Вашего, Ольгу Александровну, рабов Божиих Павла, Григория. Полна была их жизнь, и прошла она. Теперь мы на их черед. Дай, Боже, пройти ее, не утеряв пути Христова!.. Дорого яичко в Христов день, – дороги и цветы в день Троицын.
А Вы не сетуйте на меня, что молчал до сих пор. Ведь адреса Вашего я не знал, – не могли мне сообщить его ни дворник, ни швейцар в Вашей квартире. Ходил я дважды, чтобы Вас встретить, но не встретил. <…> Только с неделю как получил Ваш адрес от Никольских и хотел сам поехать к Вам на дачу, а не писать. Но пока что выбраться не могу, и потому вместо поездки пишу.
Все это время с Вашего отъезда вхожу в свою работу над корковыми центрами. Море это великое и пространное не только по литературе, написанной уже на эти вопросы, но и по существу фактов, какие открываются при эксперименте. Трудно пока уловить ариаднину нить, которая руководила бы в этом лабиринте. В последнюю неделю опыты были неудачны: три кошки подряд умерли до окончания операции. Подобная вещь наблюдалась у меня и в прошлые годы, после сильных жаров (например, в прошлом году в середине июля): очевидно, тяжелая жара дает себя знать и на организме животного, – хлороформ выносится ими в этих условиях с трудом. <…>
Я не могу еще считать, что моя работа вошла в колею; пока что она идет вяло; дает себя чувствовать утомление от зимней сутолоки по чужим делам; кроме того, не успокоились еще и различные дела с гимназией и посетителями. В последнее воскресенье, – легко сказать, – у меня было подряд, один за другим, по пяти посетителей, из которых по крайней мере трое по неотложным делам. Само собою, это не благоприятствует сосредоточению внимания на текущую работу. Но, надеюсь, эти посещения и дела приходят к концу, и теперь я сяду за дело вовсю – т. е. не только за опыты, но и за чтение литературы в свободные от опытов дни.
Статья моя «О церковном пении» ужасно задержалась в печатании. Она оказалась чрезвычайно длинною, и оттого нелегко включить ее в газету, забитую думскими и всякими другими отчетами. <…>
В статье я в значительной степени высказался по моему наболевшему вопросу о церковном искусстве. Не знаю, принесет ли это какой-нибудь хороший плод, но у меня была настоящая потребность сказать, что у меня наболело. <…> При всех очень многих своих недостатках, эта статья мне очень дорога. И скажу Вам по секрету: мне дорого было бы, если бы прочли ее не мимоходом, не поверхностно именно Вы. Я пришлю ее Вам на днях.
Проводил на прошлой неделе семью Лащинских; а теперь провожаю Мякутиных. Это навевает какое-то грустное чувство: Лащинский – моя связь с прошлым, Мякутин – человек из настоящего, один из немногих, с кем у меня так много общего. <…>
В прежнее время я не так грустил, расставаясь с людьми, потому что верил, что стоит покопаться – и везде найдешь в человеческой душе то, что тебе родственно и дорого. А теперь я состарился, нет уже энергии для разыскивания своего в людях, и оттого хочется крепко держаться за то, что уже дано, и грустно, когда свои люди (свои по духу) уходят вдаль.
До свиданья. Не сетуйте на меня, ради Бога.