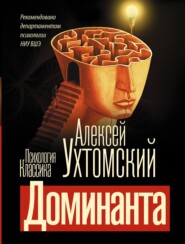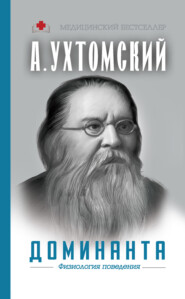По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наша прекрасная Александрия. Письма к И. И. Каплан (1922–1924), Е. И. Бронштейн-Шур (1927–1941), Ф. Г. Гинзбург (1927–1941)
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С первой стороны я всех своих работников знаю ранее всякого экзамена и, как я и говорил Марии Мироновне, дал бы зачет всякому из них без дальнейших разговоров, чтобы не мучить излишней формальностью людей, замученных аналогичными формальностями по другим «скачкам с препятствиями». Я зачитываю Вам сейчас Введение, поскольку дело идет об очередном «препятствии», как зачел бы его и всем прочим моим работникам.
Со второй стороны, с работниками своими, да еще с любимым сотрудником, мне, естественно, хочется не ограничиваться формальной и обязательной частью в любимом нами предмете, который нас связывает; хочется поговорить по существу. Я и задал Вам вопрос на более или менее самостоятельное рассуждение, материал для которого у Вас есть в известных Вам фактах. Дело шло не о формальном «отрапортовании от сих и до сих» по книжечке, а о товарищеском обсуждении вместе со мной знаменитой гельмгольцевской темы, обычно не освещаемой в учебниках. К тому же Вы слышали от меня на лекции прошлой осенью, как развивался этот вопрос в науке и как он завершился знаменитыми опытами Этуотерса в грандиозных размерах на счет правительства Соединенных Штатов. Если бы Вы, со своей стороны, не отнеслись к моему вопросу чисто формально, с точки зрения простого экзаменационного самолюбия, то принесли бы мне большое удовольствие, а себе пользу, – осветив для своей мысли лишний раз логический смысл, содержащий и радость разрешения важной проблемы.
Вы слишком нервно настроены, слишком неспокойны душою, – оттого и кончилась моя беседа с Вами, и без того такая редкая, так неожиданно!
Пусть не тяготеет над Вами мысль о скачке через мой предмет, формально он выполнен по чистой совести. Что же касается существа дела, то я все же не теряю надежды увидеть и услышать Вас не в тяготящей обстановке обязательства, а радостною и мыслящею вслух вместе со мною, как бывало когда-то в счастливое время. Если Вам захочется самой для себя исправить этот несчастный экзамен не в порядке обязательства, а в порядке беседы, то я всегда к Вашим услугам.
В пятницу 14 сент. я нарочно приезжал из Александрии и поджидал Вас, думая, что Вы побываете, как хотели.
Занесите, пожалуйста, в ближайшие дни Ваш матрикул для записи отметки. Покажите мне Ваши глаза более веселыми и ясными!
Ваш А. Ухтомский
18
Дорогой мой далекий друг Ида, где-то Вы сейчас и что с Вами? Так мне захотелось поговорить с Вами, мое милое деревцо, около которого я когда-то отдыхал душою и так радовался! Так позвольте же поговорить с Вами хоть заочно, не поскучайте на моем писании!
Сегодня ровно год с того дня, как Вы были у меня, трудились у окошек и так мило пели, пока я сидел у себя в кабинете. Помню, как я спросил Вас, будем ли мы опять читать вместе когда-нибудь по-александрийски, а Вы, остановившись в своей работе у окошка, сказали с такой уверенностью: «Да, я убеждена, что будем…» Вам как будто странно было мое сомнение, ибо я знаю по старому опыту, что прекрасное бывает редко, ненадолго, и дается людям скупо! Пробежали прекрасные, горячие, солнечные дни прошлогодней Александрии, и их нет. Слава Богу за них! Для меня это был подарок на всю жизнь, такой незаслуженный, такой необыкновенный…
Но вот для меня еще огорчение. Вашу милую прошлогоднюю работу разрушили мои непрошеные радетели, очищавшие мою квартиру после моего заключения! Я застал разрушительную работу по раскупорке окон в столовой на полном ходу и уже не мог прекратить разрушения. Сохранил лишь окно в кабинете, как памятку. Если бы люди знали только, какое горе они принесли мне этими «очистками»! А надо было благодарить за любезность…
Говорят, что именно сегодня решается в Петропрофобре пересматриваемое дело о моем оставлении или неоставлении в университете. Так наболело на душе все это. Стал я деревянным от этих переживаний. Иногда очень больно. В другое время царит безразличие. Какое-либо дело не идет на ум. Забываюсь только за чтением лекций, – видя внимательные лица, узнающие новое и соображающие то, что слышат в первый раз. Это ужасно приятно, бодрит и радует. А вот и это хотят отнять! Именно это, последнее!
Я узнал от человека, видевшего наше дело, что отстранение от преподавания мотивируется так: я не годен «по политическим причинам», Тур «по научной бездеятельности», а Пэрна – «как мистик». Сегодня я ходил к Пэрна и застал его в крайне тяжелом состоянии. Он лежит; жалуется, что правое легкое совершенно не работает после весеннего кровоизлияния в плевру; говорит хрипло, с трудом и с одышкою. Рука не поднимается рассказать ему о положении вещей. Со своей стороны, я делаю что могу – прошу ходатайствовать о нем, чтобы ему дали умереть преподавателем университета. Ведь он и так не задержит за собою места более чем на год!
И ведь все это, как я узнал, возбуждено исключительно господином Кшишковским из его личных соображений, из желания всеми неправдами втиснуться в университет. Сами коммунисты относятся к этому господину очень пренебрежительно и неуважительно. И все-таки он успевает в своих интригах, столь типичных для мелкого полячка! Ну, Бог с ним! Мое глубокое убеждение в том, что ничто в человеческой жизни не делается без смысла, во всем, что с нами происходит, мы сами скрытые участники и виновники, хоть и долго не можем этого заметить и понять. Конечно, смысл этого может быть и очень тяжел для нас! Древний царь увидел, как таинственная рука писала на стене таинственные слова. Рука вычертила три слова: «мене, текел, фарес». Оказалось, что это значило: взвесил, нашел легким, отбросил. Так вот и Жизнь постоянно взвешивает нас, – испытывает, достаточно ли мы полновесны, и выдувает то, что оказывается легким прахом и пылью, оставляя лишь полноценные зерна, обещающие дать росток!
Мой дорогой друг! Я не могу и не хочу думать, что нелепая прошлая зима и такой неудачный год выдул то, что завязалось так прекрасно летом прошлого года! Я хочу, чтобы добрый ветер, знающий свое дело, выветрил меня, если я того стою, но не тронул бы моего дорогого, того полноценного и большого, что я чувствовал с Вами в те недолгие дни, когда я чувствовал Вас так близко с собою у одного и того же Солнышка, которому мы радовались. Радовались мы блесткам живой и пребывающей Истины, которая прекрасна и в самом деле дана нам не как подушка, на которой могла бы успокоиться наша голова, но как обязательство и завет для предстоящей жизни. Людям ужасно хочется устроить себе Истину так, чтобы на ней можно было покоиться, чтобы она была удобна и портативна! А она – живая, прекрасная, самобытная Жизнь, часто мучительная и неожиданная, все уходящая вперед и вперед от жадных человеческих вожделений и увлекающая человека за собою! Не для наслаждения и не для покоя человеческого она дана и существует, а для того, чтобы влечь человека за собою и отрывать его от привычной и покойной обстановки к тому, что выше и впереди! Не ее приходится стаскивать вниз до себя, а себя предстоит дотянуть и поднять до нее! Это все равно как любимое человеческое лицо, которое дано тебе в жизни, самобытное и обязывающее. Человек хочет понять это лицо по-своему, успокоительно и портативно для своих небольших сил и своей ленивой инертности. Но достоин он лица, которое любит, лишь тогда, когда забыл себя и свое понимание, свой покой и инертность, и когда идет за любимым и силится принять его таким, каков он есть в своей живой самобытности!
Ваши великие сородичи, еврейские пророки, понимали Истину как прекрасное, самобытное, ревнивое и любимое и любящее лицо, наподобие любимого человеческого лица. Они понимали, что надо идти за ним, уходить от себя ради него, перерастать себя, если в самом деле хочешь быть достойным его. Это – радикальная противоположность нашей европейской популярной мысли, что истина есть удобное для меня экономическое построение моих абстракций, на котором я мог бы наилучшим образом успокоиться и «приспособиться». Популярный европейский мыслитель склонен думать, что он призван «ассимилировать» истину себе, по себе и для себя. Еврейский пророк сознавал, что надлежит человеку «ассимилировать себя» истине, поднять себя до нее.
Вот так чуткая женская душа болезненно и ревниво опасается того, что человек, зовущий ее, перетолковывает ее по себе и для себя вместо того, чтобы видеть, какова она есть в своей самобытности! Для себя ли и для своего покоя ищешь ты меня; или в самом деле я тебе дорога в моей самобытности?
Посмотрите, какое замечательное и говорящее само за себя обстоятельство. Популярная европейская мысль, убежденная в том, что призвана строить истину для себя и по своим интересам, кончает тем, что приходит к отрицанию возможности знать кого-либо, кроме своей эгоцентрической личности; нельзя знать другого, нельзя понимать друга; неизбежен принципиальный солипсизм.
Напротив, здоровый и любящий человеческий дух начинает с того, что знает друга и ничем более не интересуется, кроме знания друга, другого, весь устремлен от себя к другому; и он кончает тем, что Истина понимается как самобытное и живое существование. Тут логические циклы, неизбежно приходящие к противоположным концам, ибо различны начала!
Так я могу сказать, что радостное и солнечное в прошлогодней Александрии было для меня в том, что я учувствовал в Вас другого, самобытного, мог его назвать другом, – самым близким мне и в то же время другим, – и тогда вместе с Вами, с другом, стал ощущать красоту и самобытность греющего нас Солнышка – той Истины и Жизни, которая дает смысл жизни и Вашей, и моей, и наших братьев. Вот это – счастие, настоящее счастие, которое тогда нас радовало: счастие не эгоцентрическое, но общее с ощущаемым близким человеком и людьми, не мое, а общее с любимым и любимыми. И тут хочется и нужно, чтобы меня и моего не было, а было бы общее. Ведь человек на самом деле счастлив только тогда, когда «моего», «своего», эгоцентрического у него нет!
Я инстинктивно страшно боялся «моего», «своего», эгоцентрического в отношении Вас, ибо чувствовал, что оно разрушит мое благоговейное счастие около Вас!
Но повторяю, что мне надо быть уверенным, – помогите мне в этой уверенности, – что если добрый ветер выветрит, как слишком легкое и неполноценное, мое личное и меня самого, то останется и сохранится для Вас то прекрасное и живое, что радовало нас с Вами в часы общения прошлым летом. Мне легче будет дальше жить, если я буду в этом уверен. А без этого будет темно и больно!
Вы скажете: какое странное письмо! Но это не письмо, а мой бред. Так и примите как мой бред! Когда-то у нас в Корпусе был любимый учитель А. И. Кильчевский, милый и мудрый старик, воспитывавший нас и нашу мысль на Аристотеле. Уроки его были совсем особенные: не было задаваний и формальных опросов. Он приходил в зимние утренние часы и, в полутемном классе, начинал, как он сам выражался, «бредить», поднимая вопросы логики, эстетики и литературы. Ну, так позвольте мне вспомнить эту мою старину и побредить перед Вами в эти часы, когда, может быть, решается для меня тяжелый вопрос о моей дальнейшей судьбе.
Примите снисходительно этот бред, как посвящение Вам в большие часы моей жизни.
Тогда, в Александрии, я мог бы бредить тем, что меня наполняет, при Вас и в Вашем присутствии. Теперь позвольте это хоть на бумаге.
Осталось еще место от написанного вчера. Буду говорить еще, – это Вы позволите мне, потому что я теперь не злоупотребляю Вашим вниманием.
Как-то весною этого года Вы зашли в нашу лабораторию, чтобы занести мой английский словарь. Мимоходом Вы сказали тогда, что моя статья о Доминанте не может быть напечатана в том виде, как я ее докладывал в Обществе естествоиспытателей. Сказали Вы это очень утвердительно, и это оставило во мне твердое впечатление. Но я так и не понял, почему Вы это сказали и почему Вы так думаете. Мне жаль, что Вы не сочли нужным сказать мне поподробнее Вашу мысль, хотя, как видно, у Вас было важное основание. Может быть, Вы скажете мне это? Я очень давно вынашивал в себе идею Доминанты, она росла постепенно. Печатаю же я чрезвычайно мало из того, что думаю. Надо было наконец высказаться, тем более что аналогичные мысли стали рождаться у других физиологов из других данных и из других точек зрения. Вашему чутью я очень верю. И тем более на меня подействовало Ваше слово. Отчего Вы не высказали мне свою мысль поподробнее? Скажете ли Вы мне ее?
Кстати, позвольте мне рассказать Вам, что у меня записалось по возвращении домой в тот вечер, когда Вы приезжали в августе в Александрию и когда мне, в сущности, так и не удалось Вас видеть. Под тогдашними оборванными впечатлениями, поздно ночью я стал ловить то, что проносилось в моей взбаламученной душе, подобно разорванным осенним облакам. Вот что я уловил.
Психологи и теоретики познания ищут ответа, что является для человека последнею данностью опыта, последнею реальностью. Стали думать, что это ощущения. Это убеждение господствует и у физиологов. Наиболее последовательно его развил Э. Мах. Однако ясно из самоанализа, что когда мы говорим о своем реальном опыте, т. е. о действительности, какою мы знаем ее из нашего опыта, мы имеем в виду совсем не ощущения, а цельные вещи, предметы, лица, события, огорчения, радости, целые сложные переживания. Они-то и занимают нас, как непререкаемые данности, которых мы не можем изменить, как бы мы ни хотели того. Стало быть, действительными реальностями являются для нас цельные «интегралы опыта», тогда как ощущения оказываются при внимательном рассмотрении всего лишь искусственными элементами данности, отдробляемыми нашей мыслью, своего рода дифференциалами действительности, которые мы допускаем ради удобства анализа. Интегралы опыта – это то, во что отлилась совокупность впечатлений, приуроченных к определенной Доминанте, которую мы пережили со всею ее историею для нас. Например, моя покойная тетя для меня – сложный и непререкаемый интегральный образ, в который входят все впечатления моего детства, ранней юности, моей любви к ней, моих грехов против нее, моих тревог за нее в ее болезни, моего расставания с нею при ее кончине, всех моих действий по поводу ее лица. Для самого себя я тоже интегральный образ, о котором я могу иметь впечатления и суждения, хотя бы и скудные. Когда в данный момент моей жизни, такой оскуделой содержанием, меня спрашивают, что я могу сказать о себе, как я себя чувствую, я могу сказать лишь то, что все еще продолжается кусок жизни, который называется «Алексеем Алексеевичем». «Мне все еще живется». Ничего более сказать о себе, особенно после выхода из тюрьмы, я не могу. «Я еще тянусь, еще не прервался…» Спрашивается теперь, каким интегралом оказываюсь я для других людей? Как интегрируется для других мой образ и мое существование?
Для других это интеграл опыта – совокупность впечатлений, воспоминаний, рефлексов, привычных действий, – задержанных или активных, – которые когда-либо переживались и еще переживаются при моем имени или при встрече со мною. Совокупность эта, постоянно подвижная и изменчивая, имела свою историю в каждом из носителей. Для А это совершенно другое, чем для В. Для С это может быть сложное и большое явление и более целостная реальность, ибо с нею связана более длинная и сложная история переживаний: в разное время тут впечатлимы для С то радостные действия, волнующие мысли, то поток недоумения и разочарования. Для Д законченным интегралом является, пожалуй, лишь весь прошлый пейзаж, в который Алексей Алексеевич входил только как фрагмент. Наконец, Е вглядывается в меня совсем новыми глазами, и выражение их говорит, как я проинтегрировался для Е к данному моменту… Человек смотрит на тебя так, каковы его воспитанные рефлексы на тебя, т. е. какова его история взаимоотношений с тобою. Но вот однажды ты становишься законченным для человека, так сказать, «решенным интегралом», в отношении которого установились постоянные переживания, постоянное поведение. С этого момента ты для человека объективировался: кончились в отношении тебя субъективные изменения и переинтеграции, т. е. пробы, приближения и т. п. – ты стал постоянным, о чем можно говорить как о законченном логичном подлежащем. И тогда ты знаешь, что тут ничего нельзя больше переменить, ибо наступило объективное. Субъективное продолжается лишь до тех пор, пока еще ждут чего-то от тебя, еще ты не установился для человека, еще переинтегрируешься для его сознания, пока еще не «решен» для него… Ты был интегралом, которого искали, ждали, к которому шли навстречу. Потом ты стал интегралом, которого боялись и избегали. Затем стал таким интегралом, от которого уходят и которого не желают более видеть. Вот тогда ты стал окончательно объективным, т. е. вполне приспособленным для однозначного употребления в жизни и речи.
Установившиеся раз навсегда подлежащие, постоянные и неподвижные, это ведь и считается идеалом науки о реальности, – идеалом объективизма. В действительности это всего лишь успокоенные понятия, приспособленные к тому, чтобы не приходилось постоянно их переинтегрировать; или переинтегрировать лишь от времени до времени через длинные периоды истории. Сравните те толчки мысли, которыми переинтегрировались в истории науки такие понятия, как «масса», «живая сила», «работа», «инерция»!
То, что внутри человека слагается как интеграция опыта, со внешней стороны есть переживание Доминанты. <…>
Почему я написал теперь Вам все это? Да потому, что все-таки Вы тут участница, и еще раз именно Вы подняли в моей душе новые мысли, дали осветиться новым перспективам. Найду ли я время и силы для того, чтобы развить все это в строго мотивированную научную форму, понятную для других? Но я знаю, что именно здесь должен быть преодолен существующий провал между физиологией и психологией!
Давно уж я пришел к этому понятию «интегралов опыта» как последних данностей нашей мысли. С другой стороны, выяснилось мне принципиальное значение Доминанты в формировании мозговых актов. Но до поры-то до времени оба ряда фактов оставались для меня раздельными. Теперь вдруг они для меня связались неразрывною связью, как подоплека (изнанка) и наружная поверхность одной и той же деятельности!
Какое наказание я Вам доставляю! Все пишу и пишу. Это за то, что Вы мне не показываетесь, отучили говорить с Вами, а потребность говорить Вам во мне неиссякающая! Сейчас пришел с лекций на рабфаке, и опять хочется говорить с моим незаслуженным собеседником, этим бесконечным интегралом, никогда не решающимся, каким Вы являетесь для меня. Я чувствую, мое сокровище, что я для Вас источник недоумения, – оттого Вы и перестали говорить со мной. Недоумение мучительно. Но у меня-то живая потребность говорить Вам о том, чем я живу, – передать Вам то хорошее, что еще осталось у меня. Когда заглохнет во мне жизнь, тогда я сам заглохну, перестану говорить с Вами.
Все это время я живу под ожиданием каких-нибудь новых ударов и неприятностей. Они нависли как тяжелые осенние тучи. Когда встречаю знакомого, то, по успевшей уже сложиться привычке, тревожусь, не принес ли он чего-нибудь нового, неожиданно тяжелого. Вот это начатки того, что в развившейся форме становится «бредом преследования». Я по природе очень крепок и здоров, – оттого не поддаюсь духу недоверчивости к людям; до сих пор подхожу к ним открыто и доверчиво. Но когда общий колорит жизни под постоянным ожиданием неприятностей и новых ударов сгущается, когда вдобавок возникает дух принципиальной недоверчивости к встречаемым людям, тут и начинается то боление человеческой души, которое так типично для всевозможных расстройств мозговой жизни и носит название «бреда преследования». Мы мало вникаем в весь ужас, охватывающий душу человеческую в этом состоянии! Евангелие предвидит, что в страшные времена окончательного боления человечества перед разрешением исторического процесса «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Ев. от Луки, 21, 26). И все это человеческое бедствие будет оттого, что «по причинам умножения беззакония во многих иссякнет любовь» (Ев. от Матфея, 24, 12). Конечно, если мир кончится и оскудеет его raison d’etre, то не оттого, что он охладеет, увлекаясь к «максимуму энтропии», а оттого, что иссякнет в нем любовь, не окажется больше способности любить!
Погруженный исключительно в себя самого, совершенно одинокий, не ожидающий от окружающего ничего, кроме новых мерзостей, постоянно задерганный новыми ожиданиями бедствий, солипсический человек уже сейчас настоящий мученик ада, сам диавол! И некуда ему деваться, в особенности от самого себя! У него разве только тот единственный выход, чтобы, замыкаясь все более и более в самого себя, дойти до гор дынного бреда своего величия! Так роковым образом в душе сумасшедшего бред преследования переходит в бред величия! Осудив все и все прокляв, несчастный «единственный» оправдывает только себя самого; и это – уже последняя вершина безумия… Так вот, это «болезненное» гораздо ближе к нам, так называемым «здоровым», чем мы думаем! Если только человек в текущих тяжестях жизни замкнется в себе, потеряет спасительный светоч любви, он быстро скатится сначала до бреда преследования, до замкнутого в себе всеосуждения, до бреда величия! Спасение здесь исключительно в любви, в одной только ней, открывающей человеку, что центр жизни не в нем, а в человеческих лицах и лице вне его! Так что, когда все оскудеет и все пройдет, останется любовь, и она искупит и исцелит все! «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится! Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (I Коринф., 13, 8–10).
Так вот, дай Бог нам всем сохранить любовь. Без нее мы сами себе невыносимы!
Писал, писал я все это Вам, а теперь меня одолевает сомнение, уж посылать ли это писание по назначению! Может быть, Вам будет неинтересно мое переживание, потому что Вы живете теперь совсем другою жизнию, другими интересами, чем та моя Ида, которую я помню… Но писано все-таки для Вас, – поэтому все-таки пошлю. Не теперь, так потом прочтете и побудете в моих мыслях! Та Ида да будет всегда, всегда жива в Вас, пусть растет, крепнет, входит в радость Правды! Когда-нибудь я еще встречусь с нею, если Бог будет ко мне милостив!
Дни уходят так быстро; события и обстоятельства сменяются так неудержимо; и я не знаю, придется ли мне опять перекинуться с Вами словом, о чем я мечтал и сидя в тюрьме, и скитаясь по выходе из нее. На стене общей камеры на Гороховой кем-то написано: «И это пройдет». Да, быстро все проходит; и мы сами утекаем, как вода из-под плотины! Проходит и тяжелое и прекрасное! «Дважды не ступить нам в один и тот же поток, ибо все новые и новые воды приливают в него… Все течет…» – вот древнее слово Гераклита Эфесского!
Так позвольте рассказать Вам для окончания моей беседы одну древнюю полуисторию, полупритчу, которая поясняет, как трудно подчас человеку быть не одинокому и подлинно ощутить, что в мире есть еще другие, ему подобные, такие же! Всю жизнь может прожить человек и не учувствовать лиц человеческих вокруг себя, и видеть вокруг себя одни только вещи. Но однажды учувствовав лицо вне себя, человек приобретает нечто совсем новое, переворачивающее в нем всю прежнюю жизнь.
Великий хан Чингиз, поднявший из глубины Азии монгольские племена, организовавший их, в несколько десятков лет завоевал все земли и покорил народы от Тихого океана до Самарканда и Персии. Его войска, страшные и непобедимые, подошли к воротам в Европу. Гениальный организатор, собравший степные орды в несокрушимую силу, был жесток, как непреклонный закон природы: он не чувствовал лица человеческого, а только толпы, подлежащие покорению. Во всяком поселении и городе, который он брал, после всякого выигранного им сражения совершался неумолимый закон: всех мужчин убивали, всех женщин брали в обоз, – молодых как жен, а старых – как рабынь. Кто из воинов или полководцев Чингиза отступал от этого закона, сам подлежал смерти. Когда сын Чингиза взял Самарканд и пощадил некоторых мужчин, Чингиз не задумался приговорить его к смерти. Чингиз не знал жалости, колебания, милости и сомнения, ибо не знал человеческих лиц, равных себе, никогда не чувствовал человека в этих толпах, которыми владел и которые побеждал… Но вот был современник у него, другой, тоже столь же непобедимый завоеватель народов, султан Баязид. Подняв турецкие племена, Баязид тоже стучался в ворота Европы, владел Египтом, Палестиной, Сирийским Востоком до Кавказа и Евфрата. Слыша о приближении страшного Чингиза, Баязид выступил навстречу ему. Страшные полчища встретились, двум мировым страшилищам предстояло решить, кому принадлежит мир и кто затопит Европу! Произошло страшное сражение двух почти равных противников. Монголы победили. Страшный Баязид был взят в плен. Его с его военачальниками привели к Чингизу. И тут произошло неожиданное! Чингиз велел приготовить ковер с двумя диванами, накрытыми коврами. На один велел посадить Баязида, на другой сел сам; всем прочим велел выйти. Сидели друг против друга два человека, молча, поджав ноги, – один побежденный, другой победитель! Долго продолжалось гробовое молчание. Наконец Чингиз поднял глаза на Баязида, заплакал и молвил: «Так странна и непрочна судьба человеческая! Вчера – великий повелитель людей, сегодня – поверженный во прах побежденный! Сейчас побежденный и ожидающий своей участи ты; но мог быть им точно так же и я! Так превратна и непрочна человеческая судьба!» Сказав это, Чингиз, который никогда до того не проронил и слезы, позвал людей и велел отпустить Баязида с его полководцами, сказав, что им не тесно в мире обоим, и монголы будут идти своим путем, а турки пусть идут своим. В первый раз за всю жизнь Чингиз отступил от своего закона и отпустил побежденного! Это оттого, что он прослезился! А прослезился оттого, что в первый раз в лице Баязида нашел наконец человека, равное себе лицо, которого не видел ни в ком до тех пор, хоть и владел несметными человеческими толпами…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: