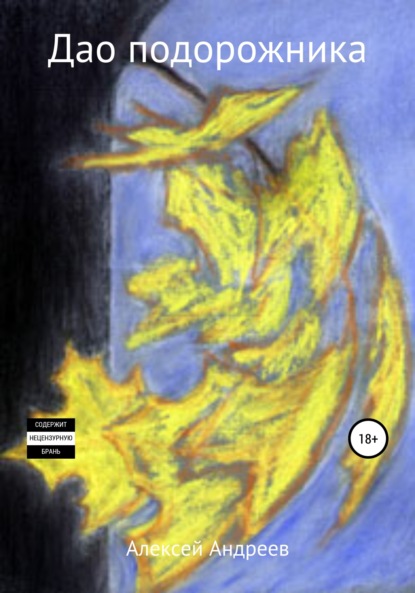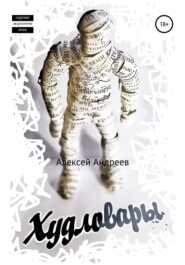По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дао подорожника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
–Можете разбавить водкой.
Бармен оглядел его с лёгким интересом, вынул две бутылки, плеснул из обеих в стакан.
–Смотрели храм?
–Да.
–Многие разочаровываются, – кивнул бармен. – Тут один даже повесился в прошлом году. Немец, кажется. Или русский. А всё из-за этих, которые красивые сказки сочиняют. Сторожа чокнутого видели? Во! Потом ещё говорят, сумасшествие не заразно. А по-моему, очень даже заразно! Когда немец-то кончился, кое-кто из наших не выдержал. Собрались, пошумели, и чуть было не спровадили этого психа-сказочника в дурдом… Но всё-таки не вышло. Исправно, говорят, служит, да и кто ещё образованный будет в такой глуши стеречь ваши развалины? Потом знающий человек рассказал: заступился кто-то за этого старикашку. Кто-то с бо-ольшим кошельком… Небось тоже какой-нибудь любитель старинных легенд. А по мне, так всё одно – что бред больного, что легенды эти… Вы-то говорили с ним?
–Говорил. Но я в такие байки не очень-то верю. Так, покатался-посмотрел. Архитектура у вас интересная. Да и вообще, природа.
–Вот это правильно! Здоровый туризм – и нам хлеб. Сами-то откуда будете?
–Париж.
–О, ну тогда здешняя глушь вам быстро надоест. Вот Богота другое дело: там и казино, и девочки первый класс.
–Да, пожалуй. Налейте-ка мне ещё. И кстати, как отсюда быстрее пройти к станции?
–А просто вниз по дороге, никуда не сворачивайте.
–Замечательно, спасибо. Нет, сдачи не надо.
# # #
В это время сторож и девочка спускались с другой стороны горы. Девочка шла впереди, держа старика за руку, а он покорно следовал за ней.
–Ты рассказал ему легенду? – спросила она.
–Он знал её, только не до конца. Впрочем, что толку. Слишком молод – ни слушать, ни смотреть не умеет.
–Но ты тоже не видишь меня.
–Я видел тебя. Это было давно и совсем в другой стране. Помнишь, я тебе рассказывал.
–Расскажи ещё раз. Я люблю эту историю. К тому же ты каждый раз рассказываешь по-разному.
–Хорошо, – согласился старик. – Только ты смотри внимательно под ноги, а то мы оба свалимся и разобьём себе носы.
Он замолчал на некоторое время, а потом начал свою историю:
–Я был известным художником и жил в городе Лионе…
–Известные художники живут в Париже, – возразила девочка.
–Эй, кто рассказывает, я или ты? – Сторож легонько хлопнул ее по плечу. – То-то же, не перебивай.
Сначала я действительно жил в Париже, и именно там сколотил себе славу. Хотя, если говорить об славе – её в основном создавали мои шумные попойки и хулиганские выходки, а не картины.
Однажды, к примеру, я попал на вечеринку, где присутствовал сам Дали. Его жена, Гала, шокировала окружающих новым белым платьем, которое на первый взгляд выглядело очень консервативным, а на второй – совершенно неприличным. Я нагло ухаживал за ней весь вечер, и под конец усадил её в кресло, куда перед этим пролил немного кетчупа. Когда окружающие захохотали, старый мистификатор быстро выкрутился, приписав создание этой «новой палитры» самому себе. Он тут же усадил жену на лист бумаги и объявил полученный оттиск «шедевром менструально-критического метода». Но он был зол, чувство собственного величия изменило ему на мгновенье, и он ляпнул какую-то гадость про «соавтора». Фраза тут же была подхвачена владельцем галереи, где выставлялись мои работы, и появилась на следующий день в газетах.
Но я и вправду любил рисовать, и рисовал неплохо. Когда известность позволила мне стать достаточно независимым, я решил, что жить в Париже вовсе неинтересно, особенно если ты уже не заботишься о мнении болтливой богемы. Мне же самому было все равно, где жить. Единственное, чего мне хотелось – чтобы в городе, где я живу, ходило метро, как в Париже. И я переехал в Лион. Это даже улучшило мой образ: для критиков я превратился в эдакого гения-затворника, который возвысился над мирской суетой и творит свои шедевры в гордом отрыве от общества.
Такая жизнь меня вполне устраивала. Я подолгу гулял один, наблюдая людей в разных ситуациях – в метро, в парках, на рынках, иногда даже в тёмных кинозалах во время просмотра каких-нибудь экзотических фильмов, – и возвращаясь в студию, много работал. В Лионе я нарисовал лучшие свои вещи: японку, которая держит во рту сломанный гребень для волос; мальчика-официанта, смахивающего отражение неба с залитых дождем столов; и ещё несколько картин, среди которых наиболее известны «Безносый поцелуй» и «Музыка точильщиков».
Продолжал я и кое-какие выходки, разве что теперь они стали тоньше. Так было с «Кошкиной Стеной». Однажды мы с друзьями возвращались после зарисовок на природе. В метро в ожидании поезда я рассматривал серые стены, лишь кое-где расцвеченные рекламой да сомнительными надписями. А потом вынул синий мелок и быстро нарисовал кошку с длинной шеей и большими глазами. Мои приятели, не говоря ни слова, добавили рядом своих пастельных кошек: толстую жёлтую и облезлую чёрную.
Дальше всё пошло само собой – не проходило и дня, чтобы на стене не появилось новой кошки. Каждый художник, а то и просто вольнолюбивый житель Лиона, ожидавший поезда на этой станции, считал своим долгом подрисовать свою кошку. «Кошкина Стена» стала не менее популярной, чем какая-нибудь выставка или музей; некоторые, услышав о ней, специально приезжали издалека, чтобы поучаствовать в затее. Кошек рисовали уже не только на стене, но и на полу, на перилах эскалатора, на поездах…
Чтобы прекратить эти беспорядки, к Стене был приставлен специальный полицейский. Но и это не остановило любителей граффити: человек, проходя мимо, на секунду задерживался, прислонял к Стене заранее заготовленный трафарет, на Стене отпечатывалось нечто хвостатое и ушастое, а изобретательный автор тут же скрывался в толпе. Потом стали подбрасывать живых кошек: пугаясь толпы и поездов, те громко орали и разбегались в разные стороны…
Через полгода после «рождения» Стены я прочел в газете историю, которая звучала совсем уж невероятно. Полицейский, дежуривший под Стеной, вдруг заметил, что прямо у него над головой осыпается штукатурка и является кошачья голова, будто кто-то высекает её на Стене невидимым зубилом. Шокированному сержанту понадобилось ещё с полминуты, чтобы оправиться от страха и понять, что происходит; дуло пистолета с глушителем торчало из окна поезда, отъехавшего от дальней платформы…
Слушай, я, кажется, о чем-то другом рассказывал, – прервал себя старик.
–Нет-нет, всё правильно, продолжай! – успокоила его слушательница. – Ты рассказывал, как ты жил в Париже, потом в Лионе…
–Да, верно… Ну вот, так я и жил, рисовал и шутил в своё удовольствие. Но однажды со мной случилось неприятное: я попал под автобус.
Со мной вообще частенько происходили разные штуки по причине того, что я любил отключаться от реального мира, задумавшись. В таком состоянии я мог выйти не на той станции метро или абсолютно позабыть о важной встрече. Один раз, очнувшись после очередного приступа «лунатизма», я обнаружил, что все люди вокруг меня – негры! На улице, в магазинах – нигде не было видно ни одного белого лица, и вдобавок шёл густой снег… К счастью, это была не Африка, а значительно ближе, и я кое-как добрался до дому в тот же день.
Как правило, все подобные истории кончались хорошо, но вот с автобусом вышла промашка. Я переходил улицу, совершенно не глядя ни по сторонам, ни на светофор. И наверное, перешёл бы без всяких проблем, если бы не чей-то окрик, вернувший меня к действительности прямо на середине дороги. Я обернулся, замешкался – и аккуратный белый автобус с синей полосой откинул меня далеко вперед.
Поначалу казалось, что я отделался лишь ушибом локтя и лёгким сотрясением мозга; однако врач настоял на том, чтобы я пришёл через неделю для повторного осмотра. Я чувствовал себя прекрасно, но результаты осмотра насторожили врача: он сообщил мне, что мое зрение село – немного, совсем чуть-чуть, так что я сам этого даже не заметил бы, если бы не хитрые манипуляции с таблицами, висевшими у врача на двери. «Возможно, вы просто устали сегодня, – сказал он мне. – Зайдите ещё разок через недельку, на всякий случай…»
К концу недели я и сам почувствовал, что зрение портится. Я всё ещё видел хорошо, но было кое-что, безошибочно указывающее на ухудшение. Я перестал видеть некоторые звёзды – не те, яркие, которые видят почти все, а самые слабые, которые я прекрасно различал ещё недавно. Я пришёл к доктору за день до назначенного срока, и опасения подтвердились: зрение моё слабело, и достаточно быстро. Врач сказал, что современная медицина тут бессильна. Очевидно, во время аварии были задеты какие-то особые участки мозга, и так далее, и так далее… Короче говоря, примерно через месяц мне предстояло стать совершенно СЛЕПЫМ.
Конечно, я сразу же отправился в любимый бар, с надеждой упиться до беспамятства; однако дикая и моментально трезвящая мысль о том, что я, художник, ослепну, не оставляла меня ни на миг. Ни бессонница, ни алкоголь не могли примирить меня с тем, что мне предстоит.
Я побывал у двух других врачей, но все твердили одно: ещё пара-тройка недель, и все. Рисовать я больше не мог. Каждый раз, подойдя к мольберту, я видел, как тонкий рисунок расплывается перед глазами, и руки мои начинали трястись.
Раньше я почти не встречал на улицах слепых, но за последнюю неделю мне попалось на глаза сразу несколько. Сначала нищая девушка с собакой: они сидели на асфальте у входа в супермаркет. Потом ещё двое, пожилые: один вёл другого под руку, а в свободной руке он держал белую трость, которой постукивал о край тротуара. Тот, которого вели, прижимал свою трость к груди обеими руками. У всех этих слепых были какие-то неживые, лишенные мимики лица; а лицо того, которого вели под руку, и вовсе ужаснуло меня – на нём застыло подобие довольной улыбки, как если бы улыбался экспонат из музея восковых фигур.
Знакомый скульптор пригласил меня на открытие своей выставки. Было много народу, шампанское, я даже как будто отвлёкся от своих проблем… и тут взгляд мой упал на человека, который делал что-то странное. Он как будто обнял одну из новых скульптур моего друга, и стоял так, медленно ощупывая её руками… Слепой!
Я порвал отношения со всеми, даже с самыми близкими друзьями. Моя лучшая натурщица Соня – мы жили вместе уже четыре года, она сносила многое – но в один прекрасный день не выдержала моей грубости, в слезах запаковала чемодан и уехала в Париж. Я никому не говорил о своей беде, поэтому все сочли мое поведение очередной причудой зазнавшейся знаменитости. «Надеюсь, в этот раз ты выпьешь достаточно для того, чтобы утонуть в Роне без красивых жестов!» – крикнула моя подруга перед тем, как уйти.
Возможно, именно эта фраза и удержала меня от утопления. Какими-то пошлыми стали казаться все эти самоубийства на пустом месте, столь популярные в нашей артистической среде. Вся эта «борьба с невидимыми демонами», вся болтовня о «высших планах сознания», об «апокалиптических знаках в семиотике городской архитектуры»… В отличие от этих изнеженных эстетов, я теперь точно знал, каков он – ад для художника.
Оставшись совсем один, я целыми днями бродил по городу в пелене мокрого снега, в доску пьяный и абсолютно трезвый одновременно… А когда замерзал, спускался в метро и сидел там на скамейке, разглядывая прохожих, или ездил от станции к станции.
Как-то раз, проходя по незнакомой улице и думая, куда бы зайти погреться, я увидел вывеску «Оранжерея». Внутри было жарко и сыро; со всех сторон цвели причудливые тропические орхидеи. На фоне заснеженного стекла особенно смотрелись белые, с ярко-красными язычками в центре. От них шёл тонкий, волнующий аромат, возникали мысли о киви и манго, о море и женщине…
Я снял плащ и сел на скамью. В конце концов, неплохая идея: наглядеться на красоту впрок перед тем, как я ослепну. Я вдруг понял, что все эти дни, бродя по городу, я старался увидеть как можно больше движущихся, сменяющих друг друга объектов. Как будто пытался отвлечь себя от мрачных мыслей этим калейдоскопом, напоминающим мне, что я все еще зрячий.
А в оранжерее было тихо и спокойно. Это была удивительная пауза в хаотическом вращении моего мира последних дней. Но вскоре я заметил движение: по одной из дорожек, вьющихся среди зелени, бродила девочка в очках, с большим альбомом. Она останавливалась около каждого цветка, зарисовывала его в альбом, затем приседала перед табличкой и аккуратно переписывала название. Она вовсе не была красивой, но она двигалась, и я невольно засмотрелся на неё, позабыв и о цветах, и о своей беде…
Её нужно нарисовать, понял я.