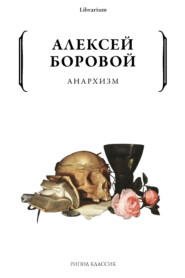По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Личность и общество в анархистском мировоззрении
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(…) Когда процедура была закончена, следователь объявил мне, что дело серьезное, что он должен был бы по закону подвергнуть меня аресту, но, принимая во внимание мою популярность в Москве, общественное положение, а также личную ему известность, он ограничивается отобранием от меня подписки о невыезде.
После этого я вновь был на консультации у Муравьева с Духовским. Взвесив предъявленные мне обвинения и учитывая политическую и судебную конъюнктуру момента, они оба пришли к заключению, что трехлетней крепости мне не миновать. Невольно напрашивался вывод – надо удирать. Разумеется, эмиграция для меня была во много раз обольстительнее, чем высидка в царской тюрьме с перспективами, при моем предрасположении ко всяческим болезням, растерять за три года окончательно здоровье. Я решил бежать. Все близкие поддержали меня в этом решении».
В лекции (и изданной на ее основе книге) Алексей Боровой стремится подвести духовный фундамент под собственное революционное, анархическое миросозерцание, обосновывая его этичность и целесообразность, в постоянной оппозиции к «реальной политике» оппортунистов и либералов. Политический спор с кадетами перерос в психологическое, этическое, метафизическое, духовное отталкивание от них и помог Боровому сформулировать основания собственного анархизма. Как это часто бывает в сочинениях Борового (особенно в его книгах, вырастающих из публичных лекций), злободневная проблематика (полемика вокруг оправданности вооруженного восстания в Москве) переплетена здесь с «вечными» мировоззренческими и этическими вопросами: о нравственном и безнравственном, о целесообразном и нецелесообразном в политике, о радикализме и приспособленчестве как жизненных стратегических установках, о реформизме и революционности, о догматизме и жизненной спонтанности, об этике Закона и этике Творчества, о духовном максимализме и конформизме, об антагонизме личного и общественного, о насилии в истории, об этике и метафизике революции… Вся лекция (и книга) строится на антитезах и контрастах (любимый прием Борового), сочетает обобщения с яркими образами, представляя из себя пламенный памфлет против малодушия и мещанства.
В общем, возвращаясь к своему «Революционному миросозерцанию» и его месте в собственной эволюции и судьбе четверть века спустя, незадолго до смерти, в своих мемуарах Алексей Алексеевич Боровой так оценивал это произведение: «Мои выступления против либералов начались сейчас же после Московского вооруженного восстания.
Главное мне удалось высказать в публичной лекции „Революционное миросозерцание“, напечатанной отдельной книжкой.
На это выступление взорвали меня две громкие тогда статьи П. Струве в „Полярной звезде“: „Два забастовочных комитета“ и „О московских событиях“.
Со всей страстностью, мне доступной, я протестовал против морального и политического права кадетов на отделение в революции – овец от козлищ, против слов „только одно истинно революционное дело – это достославная октябрьская забастовка и ее драгоценное детище, манифест 17-го октября. Только это – революция, все же прочие – революции, которыми дело революции испорчено и подорвано“.
Вспоминая то, что было написано более четверти века назад (у меня нет книжки под рукой), я ничего не хотел бы изменить в ее смысле. Все, что тогда подсказал мне мой пафос революции, я и посейчас считаю правильным. „Безумие“ революции представляется мне и сейчас самым дорогим и высоким из всего, что может быть сделано человеком.
Не только профессора политической экономии и государственного права из кадетов, но и все рационалистические мудрецы и последующих дней полагали, что революцию можно „делать“. Они не хотели понять, что ни жизни, ни революции – а революция есть триумф жизни, весна, ее – не склеить из благонамеренных кусочков. Самым умным, самым сильным не вычеркнуть из жизни – борьбу, страдания, ее органические „нелепости“, „безумие“.
Революция – стихийный взрыв, живой поток. В неудержимом беге – несет она уродства, красоту, страдания и радости, взметает кверху пыль и шлак, взбивает пену и, бурливая и грозная, бежит по новому руслу.
Бергсоновская мысль – процесс жизни не фабрикация, а организация – верна. „Организация“ идет от центра к периферии. Сначала для нее нужно немного места, минимум материи, как будто организующие силы неохотно вступают в пространство. От единого к множественному. От органического жизненного порыва – вдохновения, изобретения – к планомерному строительству, в духе нового открытия, новых завоеваний.
И потому так странны претензии рационалистических критиков „неудавшейся“, по убеждению их, революции. Безмерно наивны притязания: если бы мы стали у власти, если бы мы управляли страной, если бы…
Эти „если“ – сказанные или подразумеваемые – самое полное и беспощадное осуждение „условных“ деятелей и „безусловных“ критиков.
Почему вы не у власти? Почему не вы „делаете“ революцию? Почему не вы управляете страной? Почему вы не оттолкнете заблуждающихся?
Потому что вам мешают ваши «если», бьют вас по рукам, пригибают вас к земле. Потому что нет у вас инстинкта и темперамента строителя, нет смелости оттолкнуться, смелости пристать. Вы взвешиваете, считаете, меряете, но не дерзаете отрезать. И вы должны посторониться.
История – единственно – неподкупная, честная распределительница ролей. И если не отвела она вам первой роли, значит, есть в вас какой-то органический порок. Кто хочет жить, должен уметь в мгновении переживать вечность».
* * *
«Пафос» (одно из любимых слов Борового), страсть – то, через что Алексей Алексеевич воспринимал все на свете. Первичны в его духовном опыте: восхищение, удивление, сопереживание, ужас, стыд, отвращение, протест… Затем, заряженные энергией страсти, приходили мысли, обобщения, логический анализ, прояснение и узнавание «своего». Символы, мыслеобразы позволяли ему увидеть всеобщее через единичное, абсолютное через конкретное, благоговейно вслушаться (подобно Блоку или Чюрленису) в симфонию мироздания, ощутив ее ритмы и мелодии.
После этого я вновь был на консультации у Муравьева с Духовским. Взвесив предъявленные мне обвинения и учитывая политическую и судебную конъюнктуру момента, они оба пришли к заключению, что трехлетней крепости мне не миновать. Невольно напрашивался вывод – надо удирать. Разумеется, эмиграция для меня была во много раз обольстительнее, чем высидка в царской тюрьме с перспективами, при моем предрасположении ко всяческим болезням, растерять за три года окончательно здоровье. Я решил бежать. Все близкие поддержали меня в этом решении».
В лекции (и изданной на ее основе книге) Алексей Боровой стремится подвести духовный фундамент под собственное революционное, анархическое миросозерцание, обосновывая его этичность и целесообразность, в постоянной оппозиции к «реальной политике» оппортунистов и либералов. Политический спор с кадетами перерос в психологическое, этическое, метафизическое, духовное отталкивание от них и помог Боровому сформулировать основания собственного анархизма. Как это часто бывает в сочинениях Борового (особенно в его книгах, вырастающих из публичных лекций), злободневная проблематика (полемика вокруг оправданности вооруженного восстания в Москве) переплетена здесь с «вечными» мировоззренческими и этическими вопросами: о нравственном и безнравственном, о целесообразном и нецелесообразном в политике, о радикализме и приспособленчестве как жизненных стратегических установках, о реформизме и революционности, о догматизме и жизненной спонтанности, об этике Закона и этике Творчества, о духовном максимализме и конформизме, об антагонизме личного и общественного, о насилии в истории, об этике и метафизике революции… Вся лекция (и книга) строится на антитезах и контрастах (любимый прием Борового), сочетает обобщения с яркими образами, представляя из себя пламенный памфлет против малодушия и мещанства.
В общем, возвращаясь к своему «Революционному миросозерцанию» и его месте в собственной эволюции и судьбе четверть века спустя, незадолго до смерти, в своих мемуарах Алексей Алексеевич Боровой так оценивал это произведение: «Мои выступления против либералов начались сейчас же после Московского вооруженного восстания.
Главное мне удалось высказать в публичной лекции „Революционное миросозерцание“, напечатанной отдельной книжкой.
На это выступление взорвали меня две громкие тогда статьи П. Струве в „Полярной звезде“: „Два забастовочных комитета“ и „О московских событиях“.
Со всей страстностью, мне доступной, я протестовал против морального и политического права кадетов на отделение в революции – овец от козлищ, против слов „только одно истинно революционное дело – это достославная октябрьская забастовка и ее драгоценное детище, манифест 17-го октября. Только это – революция, все же прочие – революции, которыми дело революции испорчено и подорвано“.
Вспоминая то, что было написано более четверти века назад (у меня нет книжки под рукой), я ничего не хотел бы изменить в ее смысле. Все, что тогда подсказал мне мой пафос революции, я и посейчас считаю правильным. „Безумие“ революции представляется мне и сейчас самым дорогим и высоким из всего, что может быть сделано человеком.
Не только профессора политической экономии и государственного права из кадетов, но и все рационалистические мудрецы и последующих дней полагали, что революцию можно „делать“. Они не хотели понять, что ни жизни, ни революции – а революция есть триумф жизни, весна, ее – не склеить из благонамеренных кусочков. Самым умным, самым сильным не вычеркнуть из жизни – борьбу, страдания, ее органические „нелепости“, „безумие“.
Революция – стихийный взрыв, живой поток. В неудержимом беге – несет она уродства, красоту, страдания и радости, взметает кверху пыль и шлак, взбивает пену и, бурливая и грозная, бежит по новому руслу.
Бергсоновская мысль – процесс жизни не фабрикация, а организация – верна. „Организация“ идет от центра к периферии. Сначала для нее нужно немного места, минимум материи, как будто организующие силы неохотно вступают в пространство. От единого к множественному. От органического жизненного порыва – вдохновения, изобретения – к планомерному строительству, в духе нового открытия, новых завоеваний.
И потому так странны претензии рационалистических критиков „неудавшейся“, по убеждению их, революции. Безмерно наивны притязания: если бы мы стали у власти, если бы мы управляли страной, если бы…
Эти „если“ – сказанные или подразумеваемые – самое полное и беспощадное осуждение „условных“ деятелей и „безусловных“ критиков.
Почему вы не у власти? Почему не вы „делаете“ революцию? Почему не вы управляете страной? Почему вы не оттолкнете заблуждающихся?
Потому что вам мешают ваши «если», бьют вас по рукам, пригибают вас к земле. Потому что нет у вас инстинкта и темперамента строителя, нет смелости оттолкнуться, смелости пристать. Вы взвешиваете, считаете, меряете, но не дерзаете отрезать. И вы должны посторониться.
История – единственно – неподкупная, честная распределительница ролей. И если не отвела она вам первой роли, значит, есть в вас какой-то органический порок. Кто хочет жить, должен уметь в мгновении переживать вечность».
* * *
«Пафос» (одно из любимых слов Борового), страсть – то, через что Алексей Алексеевич воспринимал все на свете. Первичны в его духовном опыте: восхищение, удивление, сопереживание, ужас, стыд, отвращение, протест… Затем, заряженные энергией страсти, приходили мысли, обобщения, логический анализ, прояснение и узнавание «своего». Символы, мыслеобразы позволяли ему увидеть всеобщее через единичное, абсолютное через конкретное, благоговейно вслушаться (подобно Блоку или Чюрленису) в симфонию мироздания, ощутив ее ритмы и мелодии.