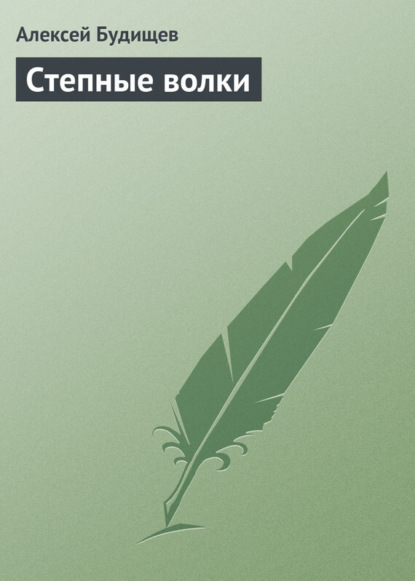По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Степные волки
Год написания книги
1897
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Её плечи дрожали. Сутолкин накинул на нее свой чапан, пожал её руку и отпихнул лодку. Лодка выскочила на середину речки. Егор Сергеич сел к веслам, поставил лодку вниз по течению и, сложив весла, заговорил:
– Боже мой, какое счастье! Тилибеевка, наконец-то, моя! Мы будем трудиться, и вокруг нас закипит рабочая жизнь. Я перекуплю у Ветошкина завод, обновлю мельницы, поставлю водяные молотилки и подниму залежи. Четыре тысячи десятин земли – здесь есть где развернуться! Милая, чрез десять лет я буду миллионером. Я удесятерю доходность имения. Ах, Серафима, Серафима, если бы только ты знала, что ты сделала для меня! Если бы это мог чувствовать отец! – Сутолкин осторожно подвинулся к девушке и обнял её колени; его сильная грудь задрожала от волнения, будто все эти мечты, надававшие ему сна и покоя, колебали ее как степные бураны.
С Серафимой снова сделался обморок…
Сутолкин стал мочить ей виски. «Боже мой, – думал он, – какая она у меня слабенькая!»
Он склонился к девушке и зашептал:
– Милая, не надо так волноваться. Поверь мне, мы сделали вовсе уже не такое плохое дело. Степь нуждается в рабочих силах, и ей нужны только сильные работники. А я буду работать, как вол. Когда счастье бежит от нас, его надо ловить, как дикого коня, арканом за шею и прыгать ему прямо на спину. У кого сильные мускулы и смелое сердце, тот сумеет подчинить его своей воле. «Работайте! – вот что кричит нам в уши жизнь. – И работая завоевывайте ваше счастье». Способные должны оттирать неспособных; больных можно жалеть и помещать в больницы, но все поле деятельности должно оставаться за сильными и способными. На этом заложен рост всего человечества! Серафима, понимаешь ли ты меня? Я хочу дела, большого дела!
Сутолкин толкнул веслами и так сильно, что одно весло разломилось пополам. Лодка сделала прыжок. Сутолкин засмеялся.
– Эта речка слишком мала для меня, а судьба думала, что я просижу всю жизнь в вороньем гнезде!..
Бледный серп месяца выглянул из-за тучи и посеребрил чешуйчатый след лодки. Сутолкин поехал с одним веслом.
Когда Ветошкин узнал о бегстве Серафимы и о похищении выданных на её имя векселей, он положительно пришёл в неистовство. – Он, как в припадке, набрасывался на рабочих, бил параличную жену, по целым дням брюзжал и шипел, как змея, и забывал даже петь свои излюбленные духовные стихи Он несколько раз пытался увидеться с Серафимой и Егором Сергеевичем, но его не принимали, а Сутолкин пригрозил, что изобьет его, как наблудившую собаку, если только увидит поблизости своего хутора. Но Ветошкин еще не терял надежды вернуть похищенные бумаги. В его голове создавались кое-какие планы.
Было утро веселое и радостное. Накануне вечером упал дождик и степи повеселели, отдохнули от зноя и благоухали. Жаворонки пели над ними свои весёлые песни; тихий ветерок тянул без перерыва, благоухающий и прохладный, и покрывал рябью зеленую грудь степей. Сутолкин выехал верхом из околицы и на минуту придержал лошадь, – так было хорошо вокруг. Степь лежала, как молодая женщина, прекрасная и сильная, полная жизни и неиссякаемых радостей, лежала и томилась в ожидании любимого жениха. Сутолкин жадно вдыхал благодатный воздух полей и думал, глядя на степь: «Полно тебе нежиться да бездельничать; ты дождалась своего жениха. Взгляни, вот он здесь, возле. Он изрежет твою грудь плугом и оплодотворит тебя семенем, он пригонит к тебе на забаву табуны легконогих коней и стада тонкорунных овец. И ты насыплешь его амбары пшеницею, а карманы – золотом!»
Сутолкин сдвинул на затылок шляпу, просиял всем лицом и ударил лошадь плетью. Ему нужно было торопиться в поля. Лошадь понеслась вихрем.
– Здравствуй, невеста! – крикнул Сутолкин, будто пьянея от своих дум, и внезапно расхохотался. Он чувствовал в себе избыток сил. Он был счастлив от сознания, что вышел победителем из битвы с Ветошкиным, и что Тилибеевка, наконец, его. Но едва он скрылся за ближайшим бугром, как из придорожного бурьяна вылез маленький человечек в засаленной поддевке и стоптанных башмаках. Он посмотрел вслед удалявшемуся Сутолкину и по-петушиному, вытянув шею крикнул:
– Здравствуй, невеста! Вор, грабитель, распутник!
Это был Аверьян Ветошкин. Он всю ночь пролежал в бурьяне, дожидаясь, когда уедет со двора Сутолкин. Ветошкин погрозил кулаком, заплевался и по-воровски, задворками, отправился в домишко Сутолкина.
Серафима сидела у окна и что-то вышивала, как всегда с сосредоточенным лицом, таким бледным и строгим. И вдруг она вздрогнула; она услышала знакомое ей шмыганье башмаков, вскинула глаза и побледнела. Перед ней стоял Аверьян Степаныч. Казалось, он постарел еще более и его глаза ввалились. Ветошкин шаркнул башмаками, захихикал и сказал:
– Здравствуйте, герцогиня. Довольны ли вы своим полюбовником? Впрочем, между прочим, мы на вас зубки точим! Нельзя ли вам заказать воровской отмычки? Мне одну бумагу у соседа уворовать надо бы? Ась?
Ветошкин снова захихикал: его ввалившиеся синие губы запрыгали, а в глазах сверкнули огоньки. Серафима слушала, бледная и взволнованная.
– Уходите, – прошептала она, вся будто колеблемая ветром, уходите, или я буду кричать. Слышали?
Ветошкин сделал шаг, внезапно упал на колени и протянул к Серафиме руки. Все его лицо сразу преобразилось, и вместо злобы и ненависти Серафима увидела на нем лишь одни невыносимые мучения.
– Серафимушка, возврати мне бумаги, ведь я отцом твоим был, на руках тебя вынянчил! – выкрикивал он протяжно, весь извиваясь как на, огне. – Серафимушка! За что же ты хочешь пустить меня на старости лет по миру? Не губи меня, Серафимушка. О-о-о!
Ветошкин припал к ногам Серафимы. Его подбородок запрыгала Серафима поднялась со стула…
– Уходите, или я закричу! – проговорила она и сделала движение к двери.
Ветошкин преградил ей дорогу; его лицо снова преобразилось, и, приближаясь к ней медленно и как-то по-кошачьи, он зашипел:
– Закричать? Вот что… слушай! Слушай, развратница, когда так, и казнись!
Старик вытянулся во весь рост и торжественно, поднял руку над головой.
– Слушай! – он передохнул всей грудью. – Слушай! Знаешь ли ты, герцогиня, что ты живешь с родным братом и венчаться я вам не позволю! – проговорил он затем медленно, с расстановкой, будто выковывая каждое слово. – Чего? Нет, не позволяю! Ты живешь с родным братом. Бог покарал тебя, и дьяволы ждут тебя в геенне огненной. Ась? Но-ни-ма-ешь? – дико взвизгнул он.
Старик снова сделал торжественный жест. Девушка стояла белая, как полотно, широко раскрыв глаза. Её голову наполнял туман. Она боялась дышать Ветошкин продолжал:
– Ты живешь с родным братом, якобы с мужем! Вы дети одного отца, только Егор Сергеич рожден женою покойного барина, а ты – его полюбовницей, дворовой девкой Агашкой!
Ветошкин на минуту замолчал и затем низко поклонился, весь содрогаясь от смеха.
– Честь имею поздравить с намерением вступить в законный брак с братцем!
Аверьян Степаныч снова внезапно захихикал, а затем также внезапно завопил:
– Дьяволы, дьяволы, дьяволы ждут тебя и растащат твое распутное тело раскаленными клещами. У-у-у! – снова завопил он, будто натравливая собак.
У Серафимы подкосились ноги. Она хотела говорить, но язык не повиновался ей. Наконец она с трудом выговорила:
– Аверьян Степаныч, родной, вы говорите неправду. Пожалейте меня! Ах, зачем же вы молчите! Слушайте! Говорите хоть что-нибудь, мне страшно!
Девушка упала на колени, прикасаясь руками к ногам старика в мольбе и мучениях, в то время, как её лицо напоминало собою какую-то маску ужаса.
Ветошкин перекрестился.
– Как перед Богом.
Серафима вскрикнула. Ею овладел безотчетный ужас. Ей хотелось скрыться, спрятаться, зарыться куда-нибудь с головою от преследовавших ее дьяволов. Ей стало ясно, что они преследовали ее всю жизнь и, наконец, толкнули на самый чудовищный грех. И теперь они явятся за ней и растащат её распутное тело раскаленными клещами. Ей нет прощения, нет надежды на спасение, она – игрушка дьяволов!
Ветошкин склонился к девушке. Он не узнавал её лица, до того оно было бледно и искажено ужасом. В этом лице будто все трепетало. Он тронул её плечо.
– Искупи грех свой, возврати мне бумаги, пожалей старика! – он снова заплакал. – Не для себя я собирал богатства, дочка, а для Бога! – вытягивал он из себя слова, звучавшие в комнате как тихое гудение пчелы, – не для себя! Доче-чка! Мне ничего не надо! Для Бога, как пчелка, тружусь. Я! Для Бога! Да! Умру, ангельчик, все людям оставлю, а кому – Богом это предусмотрено! Бог все распределит, а меня в поддёвочке засаленной похоронят. Мне ничего не надо. – Старик всхлипнул.
Серафима ничего не понимала. Мысли беспорядочно метались в её голове, как стан испуганных птиц. Ветошкин плакал и сморкался.
– Где спрятаны векселям? Дай ключ, дочурочка моя. Ух, дочурочка! Ла-а-сковая! Где?
Серафима сообразила. У неё спрашивают ключ от письменного стола, где лежат бумаги. Говорят, что это надо сделать для спасения её души. Но это вздор, спасение для неё невозможно; её греху нет названия; а ключ она все-таки отдаст: зачем он ей? Ведь ключ от её счастья все равно утерян и навсегда. Заветная дверь к её счастью накрепко забита, как крышка гроба.
Серафима стала на ноги и подала ключ Ветошкину. Его глаза загорелись торжеством; он стал пробовать, от какого ящика этот ключ. Когда замок звякнул, Серафима взвизгнула и опрометью бросилась вон из комнаты. Ей казалось, что дьяволы хотят запереть ее, чтобы растащить её тело клещами. Она сама вручила им ключ от преисподней. Она бежала, тяжело дыша и повторяя:
– Господи, помилуй! Господи, помилуй!.. Матушка Владычица, святые угодники, архангелы Божии…
Она боялась оглянуться назад. Ей казалось, что она увидит за собою дьяволов, корчащих отвратительные гримасы и хватающих ее за платье костлявыми пальцами. В поле она увидела Сутолкина; он стоял на меже и смотрел, как ходят новокупленные плуги. Серафима увидела его и, совершенно обезумев от ужаса, закричала:
– Милый, спаси! Братец, архангелы Божии!..
Она споткнулась на камень, забилась и завизжала тем диким голосом, каким вопят кликуши. Сутолкин увидел ее, услышал её крик и понял, что произошло нечто ужасное. Он бегом бросился к ней, широко размахивая руками.
Между тем Ветошкин с пачкою векселей в кармане выходил задворками из усадьбы Сутолкина и думал: «Как я все это хорошо устроил; дурочка всему поверила, очень лестно видно барской дочкой быть! Может быть, ты и барская дочка, только не нашей губернии господ! Да-с».