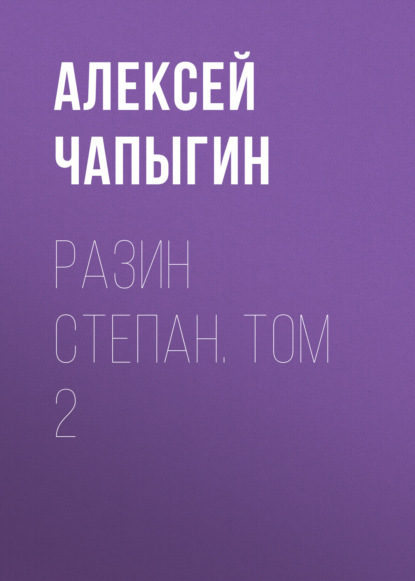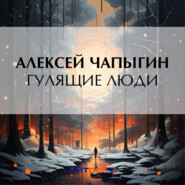По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Разин велел дать старику вина.
– Пей и не лги! Правды, сколь ни будет жестока, не бойся.
– Того, атаманушко, не боюсь! Ведаю, справедлив ты. Что посмыслю, скажу. – Старик передал Лазунке пустой ковш, утер мокрую бороду, сказал: – Кровава свеща – сам атаман, свещи посторонь – те, что ближни ему боевые люди: один пал, другой возгорелся…
– Вот ежели правда, соколы, то как я пошлю есаулов к шаху… Что значит, дидо, огонь мой кровав?
– То и младеню ведомо, атаманушко! Кровью гореть тебе на Руси… Свет твой кровавой зачнет светить сквозь многие годы. Ты не дождался, когда потухл он?
– Нет, старик!
– Вот ото… и ежели в тебе сгаснет – в ином возгорится твой свет…
– Добро, старой! Пей еще, сказал так, как надо мне, знаю: боевой человек кратковечен, вечна лишь дорога к правде… На той дороге кровавым огнем будет светить через годы, ино столетия наша правда!
Серебрякову, подставившему ковш, налили вина, он поклонился Разину, сказал:
– Ты без жеребья спусти меня, батько, к шаху! Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет, даст нам селиться на Куре.
– Эй, Иван! А шах тебя замурдует? Ведь легше мне, ежели руку, лишь не ту, что саблю держит, отсекли… Я глазом не двину, коли надо спасти тебя, – дам отсечь руку.
Серебряков поклонился, сказал:
– А все ж спусти!
– Без жеребья не налажу, Иван!
– Сергей, мечи жеребьи!
– Лазунка, черти! Идти Ивану, Григорию, Петру ставить ли, батько?
– Ставь, Сергей! За правду перед шахом мне прямая дорога.
– Петру идти, Михайлу, Сергею, Лазунке.
Разин, хлебнув вина, сказал:
– Легче мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, браты, суетесь в огонь!
Сережка ответил:
– Ништо, батько! Даст-таки шах место, запируем и зорить воевод пойдем, а за горами нас не утеснить.
Лазунка написал имена есаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда-сказочника.
– Тряси, старик! Вымай, Рудаков! Два древних пущай судьбу пытают.
– Пустая! Пустая! Еще пустая! Серебрякову идти! Пустая! Пустая! А ну? Еще пустая! Мокееву Петру идти.
– Вишь вот, кто просился, тот и покатился, – сказал древний сказочник, вытряхивая жеребьи.
– Что, батько? Я еще гож на твою правду! Сказывать ее буду ладом. Одно лишь – шаху не верю: московской царь – Ирод, перской – сатана! Един другого рогом подпирают. Иду, Степан Тимофеевич.
– Эх, Петра! – Разин опустил голову, лицо помутилось грустью, прибавил необычно и очень тихо: – Воле вашей, соколы, не поперечу… – Поднял голову: – Чуйте! О бабах кизылбаши не очень пекутся, как и у нас. Княжну не помянем, пущай Мокеева Петры память со мной пребудет. Но есть полоненник, сын хана Шебынь; удержит кого из вас аманатом шах, сказывайте ему про Шебыня и весть дайте – обменю с придачей.
– Ладно, батько. Теперь нам дай толмача.
– Того берите сами, кой люб и смыслит по-нашему.
9
Подьячий, дойдя до старого торгового майдана, не пошел дальше; народ толпами теснился на шахов майдан; рыжий подьячий слышал возгласы:
– Шах выйдет!
– Повелитель Персии идет на майдан!
Рыжий, проходя мимо торговцев фруктами – шепталой, изюмом, винными ягодами и клейкими розовыми сластями, – думал:
«Без дела к шаху не надо… Ходит запросто, не то что наш государь. Наш в карете. Шах, будто палач, норовист по-шальному: кого зря пожалует, ино собакам скормит…»
К середине площади провели нагого человека.
«А, своровал? Казнят!»
Рыжий любил глядеть казнь, потому спешно пошел. На середине площади стоят каменные столбы дважды выше человека, с железными кольцами, в кольцах ремни.
Бородатый палач, голый до пояса, в красных, запачканных черными пятнами крови шароварах. На четырехугольном лице большой нос, приплюснутый над щетиной усов. Оскалив зубы, палач всунул кривой нож в тощий живот преступника.
– Иа! Иа!
Палач, не глядя на казненного, встав к нему задом, громко закричал:
– Персы! Великий шах наш спросил эту собаку, которую я казнил: «Кто ты?» Он же ответил милостивому нашему отцу Аббасу: «Человек, как и ты, шах!» Непобедимый шах сказал: «Ты – собака, когда не умеешь говорить со мной!» – и велел взять его… Всякого отдаст мне великий, кто со злобой будет отвечать солнцу Персии.
– Слава шаху Аббасу! – закричал рыжий.
Толпа молчала.
– Пусть не кричат про величество дерзких словес, слава непобедимому шаху!
Толпа молча расходилась…
«А, черти крашеные! Не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит? Зато и не лезу к нему на глаза. – Рыжий пошел к майдану. – А ну, что их клятая абдалла[36 - Абдаллами русские XVII в. называли дервишей.] лжет?»
Подошел к дервишу. Дервиш сидит на песке в углу майдана спиной к каменному столбу, перед ним раскрыта древняя книга. Тело дервиша вымазано черной нефтью от глаз до пят, запах застарелого пота разносится от него далеко. Бородатый, в выцветшей рваной чалме, в ушах на медных кольцах голубые крупные хрустали. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди, выдвинувшись на шаг, перс с больным желтым лицом, под безрукавым, цвета серого песку, плащом со скрипом ходит грудь, на тонкой шее трепещет толстая жила, из-под голубой чалмы на лицо и бороду течет пот. Перс с испугом в глаза хрипло спросил дервиша:
– Отец! Поведай, сколько еще жить мне? Бисмиллахи рахмани рахим… скажи?
– Пей и не лги! Правды, сколь ни будет жестока, не бойся.
– Того, атаманушко, не боюсь! Ведаю, справедлив ты. Что посмыслю, скажу. – Старик передал Лазунке пустой ковш, утер мокрую бороду, сказал: – Кровава свеща – сам атаман, свещи посторонь – те, что ближни ему боевые люди: один пал, другой возгорелся…
– Вот ежели правда, соколы, то как я пошлю есаулов к шаху… Что значит, дидо, огонь мой кровав?
– То и младеню ведомо, атаманушко! Кровью гореть тебе на Руси… Свет твой кровавой зачнет светить сквозь многие годы. Ты не дождался, когда потухл он?
– Нет, старик!
– Вот ото… и ежели в тебе сгаснет – в ином возгорится твой свет…
– Добро, старой! Пей еще, сказал так, как надо мне, знаю: боевой человек кратковечен, вечна лишь дорога к правде… На той дороге кровавым огнем будет светить через годы, ино столетия наша правда!
Серебрякову, подставившему ковш, налили вина, он поклонился Разину, сказал:
– Ты без жеребья спусти меня, батько, к шаху! Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет, даст нам селиться на Куре.
– Эй, Иван! А шах тебя замурдует? Ведь легше мне, ежели руку, лишь не ту, что саблю держит, отсекли… Я глазом не двину, коли надо спасти тебя, – дам отсечь руку.
Серебряков поклонился, сказал:
– А все ж спусти!
– Без жеребья не налажу, Иван!
– Сергей, мечи жеребьи!
– Лазунка, черти! Идти Ивану, Григорию, Петру ставить ли, батько?
– Ставь, Сергей! За правду перед шахом мне прямая дорога.
– Петру идти, Михайлу, Сергею, Лазунке.
Разин, хлебнув вина, сказал:
– Легче мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, браты, суетесь в огонь!
Сережка ответил:
– Ништо, батько! Даст-таки шах место, запируем и зорить воевод пойдем, а за горами нас не утеснить.
Лазунка написал имена есаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда-сказочника.
– Тряси, старик! Вымай, Рудаков! Два древних пущай судьбу пытают.
– Пустая! Пустая! Еще пустая! Серебрякову идти! Пустая! Пустая! А ну? Еще пустая! Мокееву Петру идти.
– Вишь вот, кто просился, тот и покатился, – сказал древний сказочник, вытряхивая жеребьи.
– Что, батько? Я еще гож на твою правду! Сказывать ее буду ладом. Одно лишь – шаху не верю: московской царь – Ирод, перской – сатана! Един другого рогом подпирают. Иду, Степан Тимофеевич.
– Эх, Петра! – Разин опустил голову, лицо помутилось грустью, прибавил необычно и очень тихо: – Воле вашей, соколы, не поперечу… – Поднял голову: – Чуйте! О бабах кизылбаши не очень пекутся, как и у нас. Княжну не помянем, пущай Мокеева Петры память со мной пребудет. Но есть полоненник, сын хана Шебынь; удержит кого из вас аманатом шах, сказывайте ему про Шебыня и весть дайте – обменю с придачей.
– Ладно, батько. Теперь нам дай толмача.
– Того берите сами, кой люб и смыслит по-нашему.
9
Подьячий, дойдя до старого торгового майдана, не пошел дальше; народ толпами теснился на шахов майдан; рыжий подьячий слышал возгласы:
– Шах выйдет!
– Повелитель Персии идет на майдан!
Рыжий, проходя мимо торговцев фруктами – шепталой, изюмом, винными ягодами и клейкими розовыми сластями, – думал:
«Без дела к шаху не надо… Ходит запросто, не то что наш государь. Наш в карете. Шах, будто палач, норовист по-шальному: кого зря пожалует, ино собакам скормит…»
К середине площади провели нагого человека.
«А, своровал? Казнят!»
Рыжий любил глядеть казнь, потому спешно пошел. На середине площади стоят каменные столбы дважды выше человека, с железными кольцами, в кольцах ремни.
Бородатый палач, голый до пояса, в красных, запачканных черными пятнами крови шароварах. На четырехугольном лице большой нос, приплюснутый над щетиной усов. Оскалив зубы, палач всунул кривой нож в тощий живот преступника.
– Иа! Иа!
Палач, не глядя на казненного, встав к нему задом, громко закричал:
– Персы! Великий шах наш спросил эту собаку, которую я казнил: «Кто ты?» Он же ответил милостивому нашему отцу Аббасу: «Человек, как и ты, шах!» Непобедимый шах сказал: «Ты – собака, когда не умеешь говорить со мной!» – и велел взять его… Всякого отдаст мне великий, кто со злобой будет отвечать солнцу Персии.
– Слава шаху Аббасу! – закричал рыжий.
Толпа молчала.
– Пусть не кричат про величество дерзких словес, слава непобедимому шаху!
Толпа молча расходилась…
«А, черти крашеные! Не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит? Зато и не лезу к нему на глаза. – Рыжий пошел к майдану. – А ну, что их клятая абдалла[36 - Абдаллами русские XVII в. называли дервишей.] лжет?»
Подошел к дервишу. Дервиш сидит на песке в углу майдана спиной к каменному столбу, перед ним раскрыта древняя книга. Тело дервиша вымазано черной нефтью от глаз до пят, запах застарелого пота разносится от него далеко. Бородатый, в выцветшей рваной чалме, в ушах на медных кольцах голубые крупные хрустали. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди, выдвинувшись на шаг, перс с больным желтым лицом, под безрукавым, цвета серого песку, плащом со скрипом ходит грудь, на тонкой шее трепещет толстая жила, из-под голубой чалмы на лицо и бороду течет пот. Перс с испугом в глаза хрипло спросил дервиша:
– Отец! Поведай, сколько еще жить мне? Бисмиллахи рахмани рахим… скажи?