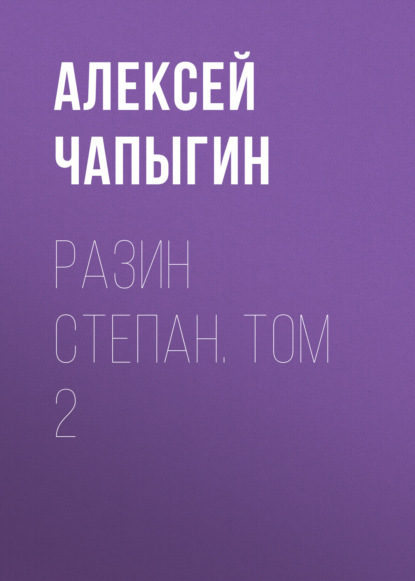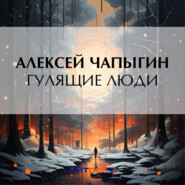По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сядь, слушай, что буду сказывать!
– Чую, ась, князинька!
Все до слова слышно было в Приказной. Воевода говорил гнусавя, но громко и раздельно:
– Пиши! «Грамота атаману Степану Разину от воеводы астраханского, князя Ивана Семеновича Прозоровского». Что-то перо твое втыкает?
– Кончил, ась, я, князинька!
– «Не ладно, атаман, чинишь ты, приказывая мног народ беглой к Астрахани, и надобно тебе распустить, а не манить людей, чтоб тем не чинить нелюбья от великого государя, и ехати тебе вскорости в войско донское, чего для службы в войске за многая вины своя перед землей русской и великим государем. А послушен станешь старшине войсковой, великий государь вменит нелюбье в милость тебе. За тое дело, что ныне на Астрахани князь Михайло Семенович на тебя во хмелю бранные слова говорил, то ты, атаман Степан Разин, в обиду себе не зачти… Мног люд, стекшийся к Астрахани, опасен ему, хмельному, стался, и тебе он хотел говорить, чтоб ты, распустив мужиков, калмыков и иной народ, снявшись со становища, ехал бы в войско донское… Я же непрошеному попущению много сердился и перед князем Семеном Львовым за бранное неучтивство бил челом. Нынче сдай ты, атаман, струги, пушки да снимись в путь поздорову, мы же тебе с князь Семеном перед великим государем верные заступники и молители будем!»
– Исписал? Добро! Дай-ка грамоту, я подпишусь!
В палате подьячий шепнул:
– Мить! Скинь сапоги, слушай… чай, доводить, сука, зачнет?
Младший, быстро сняв сапоги, подобрался к дверям. За дверями Алексеев тихо наговаривал:
– Беда, ась, князинька! От служилых лай, да седни подьячие Васька с Митькой норовили меня бить, и ты вшел, закинули… Едино лишь за то, что дал запрет: Митька на полях челобитных с отписками марает похабны слова. Хуже еще Васька: на черной грамоте игумну Троецкого исписал голое гузно; оное после, как я углядел, из вапницы[92 - В а п ы – краски; в а п н и ц а – род чернильницы с краской.] киноварью покрыл, борзописал на том месте буки слово, тем воровство свое закрасил и завилью золотой завирал. Митька же ходит за город в татарские юрты и, ведаю я, походя вору Стеньке Разину прелестные письма орудует… Про атаманов, мурз судит, что взяты на Астрахани…
– Ты, Петр, до поры подьячих тех не пугай… Сойдет время, Митьку того для велю взять в пытошную и допросить с пристрастием… Ваське – батогов!
Подьячий, спешно обуваясь, дрожал.
– Ты што, Мить?
– Довел: тебе батоги, меня пытать.
– Не бойсь, седни же в ночь бежим к козакам.
Дверь отворилась, мелькнул воевода за столом с рукой в перстнях, упертой в бороду… Подьячий Алексеев, тая злую улыбку на желтом лице, деловито шел к столу Приказной, стараясь не глядеть на младших.
11
До времени, как быть золоченому широкопалубному паузку на Волге, она не носила на волнах столь разряженного суденышка, хотя бы мало похожего на атаманское с золотыми из парчи парусами. Большой царский корабль, недавно приведенный к Астрахани из Коломны, казался нищим с белой надписью на смоляных боках «Орел». На нем, на мачтах и реях, серые паруса плотно подобраны, железные пушки по бортам выглядывали ржавыми жерлами, из гребных окошек неуклюже торчали тяжелые лопасти весел. Усатый немец в синем куцем мундире с медными пуговицами по груди до пупа стоял на носу, курил трубку и, сплюнув в Волгу, сказал:
– На, jetzt wird was. Die Rauber legen sich goldene Kleider an[93 - Что-то будет. Разбойники наряжаются в золотые одежды.].
Обернулся к палубе, крикнул:
– Гей, пушкар, гляди – пушка!
Разряженная лодка, огибая корабль, проплывала мимо: на гребцах парчовые и голубые бархатные кафтаны, красные шапки в жемчугах, с кистями, чалмами, намотанными поверх шапок. Кто-то поднял голову на высокую корму черного корабля, крикнул, заглушая плеск волн:
– Годи, царской ворон! Мы те под крылье огню дадим.
Посадский и слободской люд, даже жильцы в красных кафтанах и астраханские из небольших, вышли на берег глядеть на атамана. В толпе ветер перекидывал гул голосов:
– Уезжает атаман!
– Ку-у-ды?
– В Москву! Царь зовет… царевича повозит – Ляксея… соскучил царь-от!
– На Дон, сказывают. Пошто в Москву? Народ кинуть надобе.
– В Москву-у! Глянь, с царевичем в обнимку сидит.
– Ой, людие, где ваш зор? То персицка княжна-а…
– Княжна-а?
– И-и-их! Хороша же!
– Ясырка! Что в их? Ни веры нашей, ни говори.
– Пошто вера? Сам-то Разин мясо ест в посты.
– Теляти-ну-у!..
– Телятину! Тьфу ты!
Раскатисто набегали волны поверх гребней своих сине-зеленых, сыпали белыми тающими жемчугами, шипели, будто оттачивая булат… Атаман в ярко-красной чуге[94 - Ч у г а – узкий кафтан с рукавами до локтей.]; из коротких рукавов чуги высунулись узкие золотистого шелка рукава. Правая рука с перстнем, обняв за шею княжну, висела, спустившись с худенького плеча. Княжна горбилась под тяжестью руки господина. Разин, склонясь, заглядывал красавице в глаза. Она потупила глаза, спрятала в густые ресницы. Зная, что персиянка разумеет татарское, спрашивал:
– Ярата-син[95 - Любишь?], Зейнеб?
– Ни яратам, ни лубит… – Мотнула красивой головой в цветных шелках, а что тяжело ее тонкой шее под богатырской рукой, сказать не умеет и боится снять руку – горбится все ниже.
Разин сам снял руку, подняв голову, сказал:
– Гей, дид Вологженин! Играй бувальщину.
Подслеповатый бахарь, старик в синем кафтане, в серой бараньей шапке, щипнув струны домры, отозвался:
– Иную, батюшко, лажу сыграть… бояр потешить, что с берега глядят, да и немчин с корабля пущай чует…
– Играй!
Старик, подыгрывая домрой, запел. Ветер кусками швырял его слова то на Волгу, то на берег:
Эй, вы, головы боярские,
В шапках с жемчугом кичливые!
– Ото, дид, ладно!
Не подумали вы думушку,
То с веков не пало на душу,
Что шагнет народ в повольицо…
– Чую, ась, князинька!
Все до слова слышно было в Приказной. Воевода говорил гнусавя, но громко и раздельно:
– Пиши! «Грамота атаману Степану Разину от воеводы астраханского, князя Ивана Семеновича Прозоровского». Что-то перо твое втыкает?
– Кончил, ась, я, князинька!
– «Не ладно, атаман, чинишь ты, приказывая мног народ беглой к Астрахани, и надобно тебе распустить, а не манить людей, чтоб тем не чинить нелюбья от великого государя, и ехати тебе вскорости в войско донское, чего для службы в войске за многая вины своя перед землей русской и великим государем. А послушен станешь старшине войсковой, великий государь вменит нелюбье в милость тебе. За тое дело, что ныне на Астрахани князь Михайло Семенович на тебя во хмелю бранные слова говорил, то ты, атаман Степан Разин, в обиду себе не зачти… Мног люд, стекшийся к Астрахани, опасен ему, хмельному, стался, и тебе он хотел говорить, чтоб ты, распустив мужиков, калмыков и иной народ, снявшись со становища, ехал бы в войско донское… Я же непрошеному попущению много сердился и перед князем Семеном Львовым за бранное неучтивство бил челом. Нынче сдай ты, атаман, струги, пушки да снимись в путь поздорову, мы же тебе с князь Семеном перед великим государем верные заступники и молители будем!»
– Исписал? Добро! Дай-ка грамоту, я подпишусь!
В палате подьячий шепнул:
– Мить! Скинь сапоги, слушай… чай, доводить, сука, зачнет?
Младший, быстро сняв сапоги, подобрался к дверям. За дверями Алексеев тихо наговаривал:
– Беда, ась, князинька! От служилых лай, да седни подьячие Васька с Митькой норовили меня бить, и ты вшел, закинули… Едино лишь за то, что дал запрет: Митька на полях челобитных с отписками марает похабны слова. Хуже еще Васька: на черной грамоте игумну Троецкого исписал голое гузно; оное после, как я углядел, из вапницы[92 - В а п ы – краски; в а п н и ц а – род чернильницы с краской.] киноварью покрыл, борзописал на том месте буки слово, тем воровство свое закрасил и завилью золотой завирал. Митька же ходит за город в татарские юрты и, ведаю я, походя вору Стеньке Разину прелестные письма орудует… Про атаманов, мурз судит, что взяты на Астрахани…
– Ты, Петр, до поры подьячих тех не пугай… Сойдет время, Митьку того для велю взять в пытошную и допросить с пристрастием… Ваське – батогов!
Подьячий, спешно обуваясь, дрожал.
– Ты што, Мить?
– Довел: тебе батоги, меня пытать.
– Не бойсь, седни же в ночь бежим к козакам.
Дверь отворилась, мелькнул воевода за столом с рукой в перстнях, упертой в бороду… Подьячий Алексеев, тая злую улыбку на желтом лице, деловито шел к столу Приказной, стараясь не глядеть на младших.
11
До времени, как быть золоченому широкопалубному паузку на Волге, она не носила на волнах столь разряженного суденышка, хотя бы мало похожего на атаманское с золотыми из парчи парусами. Большой царский корабль, недавно приведенный к Астрахани из Коломны, казался нищим с белой надписью на смоляных боках «Орел». На нем, на мачтах и реях, серые паруса плотно подобраны, железные пушки по бортам выглядывали ржавыми жерлами, из гребных окошек неуклюже торчали тяжелые лопасти весел. Усатый немец в синем куцем мундире с медными пуговицами по груди до пупа стоял на носу, курил трубку и, сплюнув в Волгу, сказал:
– На, jetzt wird was. Die Rauber legen sich goldene Kleider an[93 - Что-то будет. Разбойники наряжаются в золотые одежды.].
Обернулся к палубе, крикнул:
– Гей, пушкар, гляди – пушка!
Разряженная лодка, огибая корабль, проплывала мимо: на гребцах парчовые и голубые бархатные кафтаны, красные шапки в жемчугах, с кистями, чалмами, намотанными поверх шапок. Кто-то поднял голову на высокую корму черного корабля, крикнул, заглушая плеск волн:
– Годи, царской ворон! Мы те под крылье огню дадим.
Посадский и слободской люд, даже жильцы в красных кафтанах и астраханские из небольших, вышли на берег глядеть на атамана. В толпе ветер перекидывал гул голосов:
– Уезжает атаман!
– Ку-у-ды?
– В Москву! Царь зовет… царевича повозит – Ляксея… соскучил царь-от!
– На Дон, сказывают. Пошто в Москву? Народ кинуть надобе.
– В Москву-у! Глянь, с царевичем в обнимку сидит.
– Ой, людие, где ваш зор? То персицка княжна-а…
– Княжна-а?
– И-и-их! Хороша же!
– Ясырка! Что в их? Ни веры нашей, ни говори.
– Пошто вера? Сам-то Разин мясо ест в посты.
– Теляти-ну-у!..
– Телятину! Тьфу ты!
Раскатисто набегали волны поверх гребней своих сине-зеленых, сыпали белыми тающими жемчугами, шипели, будто оттачивая булат… Атаман в ярко-красной чуге[94 - Ч у г а – узкий кафтан с рукавами до локтей.]; из коротких рукавов чуги высунулись узкие золотистого шелка рукава. Правая рука с перстнем, обняв за шею княжну, висела, спустившись с худенького плеча. Княжна горбилась под тяжестью руки господина. Разин, склонясь, заглядывал красавице в глаза. Она потупила глаза, спрятала в густые ресницы. Зная, что персиянка разумеет татарское, спрашивал:
– Ярата-син[95 - Любишь?], Зейнеб?
– Ни яратам, ни лубит… – Мотнула красивой головой в цветных шелках, а что тяжело ее тонкой шее под богатырской рукой, сказать не умеет и боится снять руку – горбится все ниже.
Разин сам снял руку, подняв голову, сказал:
– Гей, дид Вологженин! Играй бувальщину.
Подслеповатый бахарь, старик в синем кафтане, в серой бараньей шапке, щипнув струны домры, отозвался:
– Иную, батюшко, лажу сыграть… бояр потешить, что с берега глядят, да и немчин с корабля пущай чует…
– Играй!
Старик, подыгрывая домрой, запел. Ветер кусками швырял его слова то на Волгу, то на берег:
Эй, вы, головы боярские,
В шапках с жемчугом кичливые!
– Ото, дид, ладно!
Не подумали вы думушку,
То с веков не пало на душу,
Что шагнет народ в повольицо…