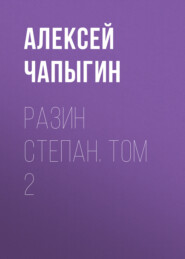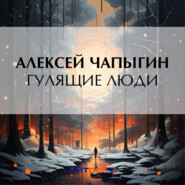По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гулящие люди
Автор
Год написания книги
1937
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Добро – пиво с водкой, в ем што ни пади, все перепреет!
На стене сруба за стойкой и в углах коптили факелы, дым от них подымался столбами, сливаясь с табачным, люди при свете факелов, как в аду. Многие раздеты до штанов, тут же кабацкие женки, вывалив отвислые груди и закрыв срам чем попало, толпились, пили и обнимались, матерясь, с теми, у кого остались крест на шее да штаны на пояснице. Медные кресты ошалело мотались на жилистых шеях, как и руки, и взлохмаченные волосы. На грязном, мокром полу спали пьяные, безобразно кривились их лица и рты, когда наступали им на руки или запинались за них. За стойкой между поставов с посудой висит крупная, замаранная и закопченная надпись. Сенька прочел: «В государевы царевы и великого князя Алексия Михайловича, самодержца всея Русии, кабаки не ходити скоморохам с медведи, козы и бубны и со всякими глумы, чтоб народ не совращати к позору[144 - Позор – зрелище. Слово XII века.] бесовских скоканий и чутью душегубных плищей[145 - Плищ – шум голосов, крики, веселье.]». Но теперь, когда целовальники в страхе от толпы и солдат, скоморохи в углу питейной избы собрались, звенит бубен, слышна плясовая:
Ой, моя жена не вежливая
На медведе не езживала!
На лисице не боранивала,
Ох, подолом воду нашивала,
Воеводу упрашивала…
Не давай мужу водку ту пить!
Все в питейной избе сумрачно: стены, потолок в густой саже, лица, заросшие до глаз бородами, скупо озаренные огнем факелов… Лишь изредка распахнется с крыльца дверь, проскочит дневной свет, и опять сумрак, да в сумраке том взвякнет ножна шпаги рейтара, шагнет проигравший деньги от стола на избу, и белый блеск его оружия кинет изогнутые полосы на мокрый пол, и снова сумрак. От сумрака почудилось Сеньке, что видит он сон тяжелый… Коротко мелькнуло в его мозгу воспоминание детства и тут же ввязалось прожитое недавно – любовь Малки, страшная смерть отца Лазаря и матери, возненавидевшей его за Никона. Он тряхнул кудрями:
– А ну, тоску-тугу кину! – подошел к стойке, сказал: – Лей стопу меду!
Целовальник, поковыряв пальцем в бороде, спросил:
– Малую те ай среднюю?
– Лей большую и калач дай!
Целовальник с постава, где стояли с водкой штофы, достал медную стопу, позеленевшую, захватанную грязными руками, нагнулся в ящик у ног, зацепил грязными пальцами кусок меду, сунул в стопу, подавил мед деревянной толкушкой, налил водки и той же толкушкой смешал. Положил на стойку рядом со стопой калач крупитчатый, густо обвалянный мукой:
– Гони два алтына!
Сенька, подавая деньги, сказал:
– Едино что скоту пойло даешь! Стопа грязная… – И, обтерев пальцами края стопы, выпил мед.
– Ты тяглой?[146 - Ты тяглой? – Т. е. плательщик податей, горожанин или крестьянин, записанный в тягло.]
– К тому тебе мало дела!
– Ормяк на те холопий, а тяглец и холоп едино что скот…
– Бородатый бес, кем ты жив? Народом! И не радеешь ему.
– Всем питухам радить – без порток ходить! – отшутился целовальник, зазвенев кинутыми в сундук деньгами.
Сенька оглянулся на шум у пивной кади, там один питух упал навзничь, лицо его смутно белело в сумраке, из горла, окрашивая седую бороду питуха черным, хлынула кровь.
– Худая утроба! Пиво пил, блюет кровью…
Питуха, чтоб не мешал пить, отволокли за ноги. Сенька громко сказал:
– Пасись, люди, то черная смерть, мой отец схоже помирал – борода в крови!
– Детина, не мути народ! – крикнул целовальник.
От питейного стола к павшему с бородой в крови, гремя ножнами шпаги, шагнул рейтаренин, за ним повскакали еще солдаты с криком:
– Волоките ево на двор, а то все помрем!
Сенька пил редко, оттого выпитое его неожиданно взволновало и озлило – сила в нем запросилась к движению, глаза как-то по-иному впивались в сумрак избы – теперь в дыму под потолком он увидал черную доску образа:
– Везде грозят – царь и Бог! Эй, люди, коломничи, кто поволокет палого, всяк помрет! А вот – зрите! – Подскочив к кади, Сенька шестопером выбил уторы, пиво хлынуло на пол.
– Ой, бес! Пить не дал.
– Так! Ай да молодший! – кричали солдаты, вскакивая за столом на скамьи, так как по полу разливалось мокро.
– Зрите на дно кади!
Много глаз уткнулось на дно куфы, много рук протянулось туда и выволокли питухи раскисшее лохмотье.
– Кафтан!
– А во ище! Бабья рубаха с поясом, нижняя…
– Штаны!
– Пусти-ка, там ище есть!
– Полу-шу-ба-ак!
– Ах, сволочь! – закричал рейтаренин. – Чем поит люд крещеный…
– Утопим, товарищи, целовальников в бочках вина-а! – кричали солдаты.
– Остойтесь! – крикнул Сенька. – Пущай ближний к кади целовальник выволокет хворобого…
– Какой те хворобой – мертвец!
– Вот вам его! – Сенька, подскочив к целовальнику, схватив, перекинул через стойку на избу.
– О, черт!
Целовальника солдаты за волосы поволокли на двор, пиная.
Один из целовальников выстрелил из пистолета в дверь на улицу и убежал, крича служителям: «Спасайте казну государеву-у!»
Рейтаренин в ответ тоже выстрелил, попал в полку со штофами, с полки полилась водка, с потолка посыпалась сажа.
– Лови, лупи дьяволов, товарыщи! – хлюпая лаптями, вскочив на стойку, заорал датошный солдат.
Спрыгнув, он поймал одного целовальника, волок его за волосы к выходу, другого поймали солдаты и также за волосы утащили на двор. Иные норовили отнять у служек кабацких мешки с напойной казной.
– Маёру гожи, и нам перепадет!