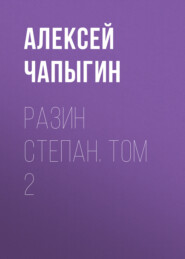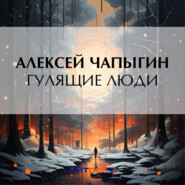По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гулящие люди. Соляной бунт
Автор
Год написания книги
1937
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сенька покорно содрал с плеч рубаху.
– Скидай портки!
– Студно мне, мамо!
– Чай я тебе мать – не чужая, скидай.
Сенька неохотно обнажил себя. Мать оглядела его и плюнула, крестясь:
– Оболокись! Сказывай, блудом грешишь? С мастерихой?
– Мне студно, да она виснет…
– То и есть! Поди спать в подклет, буде на перине, поспи на голом полу.
– Там крысы, мамо, боюсь!
– Женок бесстыжих не боишься, твари, гнуса спужался, – подь!
Сенька покорился, пошел спать в подклет. Туда ставили кринки с молоком да на стене вешали всякую рухлядь.
Мать старательно заперла дверь подклета за Сенькой, положила в крюки три железных поперечных замета и замком замкнула.
Сенька боялся крыс, ему казалось, что сонному они объедят нос и уши. Он решил не спать, сел на холодный пол, прислонясь лопатками спины к стене. Спать ему давно хотелось, брала дремота. В дреме он помышлял о своем бумажнике[25 - Бумажник – матрац, набитый хлопчатой бумагой.] и подушке. Крысы, как стихло все, завозились близко. Сенька вскочил, крысы исчезли. Когда вскочил Сенька, то уткнулся в дверь, он плечом налег на нее, дверь крякнула.
– Ага! – Он навалился грудью. Она еще как будто подалась, и снаружи ее задребезжали заметы.
Тогда Сенька ударил по двери обоими не по годам тяжелыми кулаками, а дверь трещала, звенела, но не пускала его. Крысы смело шныряли у Сеньки под ногами. Он в ужасе присел и фыркнул:
– Ффы-шт, беси!
Крысы отбежали, но возились в дальнем углу.
– Да, черт же ты, матка!
Сенька ударил еще раз по двери кулаками, послушал – никто не шел выпустить его. Тогда он изо всей силы навалился на дверь и слышал: затрещали дубовые стойки, еще налег покрепче – ага! – стало заметно, что крючья и пробои подались из гнезд, образовалась щель, но рука не пролезала, тогда он снова навалился на дверь до боли в грудях и просунул руку наружу.
– Ага!
Нащупал замок, железо не гнулось, он понатужился, сломал у замка дужку – замок выдернул, бросил, а погодя немного, ощупав, отодвинул заметы, иные снял с крючьев и, распахнув дверь, вышел.
– Черт! Спать охота… – И тут же недалеко от подклета кинулся на сенник, положенный для казачихи-девки[26 - Казачиха-девка – работница, служащая по найму.] на двух кованых сундуках, заснул, но рано утром слышал шаги и голос матери Секлетеи Петровны:
– Да, Лазарь! Испортит вконец лиходельница-мастериха парня!
Тать, видимо, торопился в караул:
– Эх ты, Петровна! Мала охота спущать парня в монастырь… Не в попы идти, станет стрельцом, азам обыкнет…
– А нет уж, Лазарь Палыч! Бабник стал, того дозналась, а там и бражник будет, то близко стоит.
– Поздаю я с твоей говорей… пождала бы моей неделанной недели[27 - Неделанная неделя – свободная от караульной службы.], тогда я отвез бы их, хоть за монастырь Троице-Сергия… не близок путь пеше идти… Ну, коли стоишь на своем, то гостю Анкудиму накажи определить куда ладнее и доле осьмнадцати лет чтоб не держали парня… Подумаем, что будет…
– То и будет, Лазарь! Услать парня надо – беда на вороту. Заперли в подклет, а он, глянь-ко, двери выломал…
– Будет сила в малом! В меня уродился.
Тать ушел.
Матка без докуки за то, что ушел из подклета, разбудила Сеньку.
– Здынься, сынок! Умойся, помолись.
Сенька послушался, он уж давно не спал. Когда, умытый, вышел, монах у стола допивал остатки пива в жбане. Видно, матка до его прихода говорила с монахом.
– Так ты его, отец, не покинь, доведешь – перво грамоте чтоб обучили, а иное делал бы, что на потребу обители.
– Перво дело – обучим… это уж, спаси, Спасе, завсегда так.
– По старинным обителям, отче, много, поди, праведников обитает?
– Есть и такие, мати, не столь праведные, но бессребреники и постники великие есть!
Сенька спросил:
– А ты, старче, скажи: монахи бражники в монастырях есть?
– Сам узришь, спаси, сохрани, будешь в обители – узришь. Тебе сие пошто?
– Да вишь – на Варварском крестце, когда я к мастеру ходил учебы для, сидели монахи и завсе хмельные… иные дрались тамо.
– Да замолчи ты! – вскинулась мать. – Вот мне, за грехи, видно, уродилось детище.
– Зело пытливой ум! – сказал монах, мокрая его борода зашевелилась, и, растопыривая грязные персты, он продолжал: – Жено богобойная! Изрек младый истину… Сам великий государь писал к строителям и игумнам, а паче митрополитам, «что многие монахи, сидя на крестцах улиц, побираютца, меняют с себя чернецкое рухло на озям мужичий, едят скоромное, не разбирая дён, и по кабакам бражничают». Человек, жено, зело грешен, и ризы монашеские не укрывают греха, а споспешествуют ему… Един Бог без греха… един, и силы бесплотные…
– Ну вот, отец Анкудим! Я малому в путь собрала суму, в суме той портки, рубаха и убрусец лик опрати… веду его чисто, и чистым он придет к обители. Да тебе вот рупь серебряной – Иисусу на свечку и иным угодникам о здравии нашем. Теперь же благослови, отче!
Монах покрестил матку двуперстно. Она Сеньку поцеловала и тоже покрестила, после креста сунула Сеньке за пазуху кису малую с деньгами.
Когда уходили, мать с крыльца кричала Анкудиму:
– Будешь на Москве, отец, не ходи на подворье, там построй идет, гости к нам и о малом моем весть дай-й!
– Чую, жено! Да мы еще не борзо оставим град сей… – проворчал монах.
Вместо Дмитровской дороги монах пошел на Серпуховскую, а там на Коломенскую, потом стали они колесить без дорог, спали на постоялых да кое-где. Сеньке надоело, он спросил Анкудима:
– Старче, чего ты ищешь?