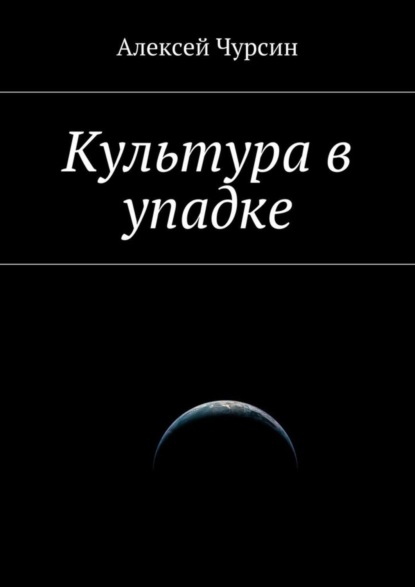По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Культура в упадке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но кто же ведёт войны? Кто является войной? Кто разрушает в секунду то, что восстанавливается годами, а может и вовсе не восстанавливается, если речь идёт о разбитом сердце, сломанной жизни, о человеке? Тот же человек, который становится армией. Стоит ли неопределённое будущее даже одной жизни? Перехода человеческой сущности в сущность дикарскую?
Задаваясь подобными вопросами, Леонид пришёл к убеждению, что нет такой цели, которая оправдала бы убийство. Цель не оправдывает средства.
Признав идею непричинения зла благотворной и спасительной, Леонид вышел из оцепеняющего действия страха и, воодушевлённый благим намерением, ставшим его девизом, не успев нарадоваться, уткнулся в другую стену – а что делать? Каков выход?
Он вполне осознавал, что его могут назвать предателем или отступником. Но таковым он будет выглядеть только в глазах этих людей. Если же он примет навязанную идеологию, ту, которую считает преступной, то станет клятвопреступником, потому что не сможет следовать ей в дальнейшем. Неприязнь возникнет из-за противоречия, в которое вступит мышление общества, уже порабощённое волей правительства, столкнувшись с его мировоззрением. Изначально в человеке присутствует свободная воля, руководящая его действиями. Эту волю он многократно подавляет, зачастую произвольно, из-за боязни осуждения, когда бездумно, полагаясь только на чужой интеллект, действует в той или иной ситуации. Таким образом, презирая его, человека, не согласного с общепринятой идеологией, противящегося ей, общество, уже порабощённое и не подозревающее об этом, будет пытаться подчинить его своей воле.
Тонущие всегда неосознанно хотят утопить спасающего. В этом случае, когда потакание общепризнанной идее переходит в осуждение изъявления субъективного мнения и пытается подчинить его себе, речи о свободе не может быть. «Общественное мнение пытается навязать мне свою волю, волю, которую никак нельзя назвать свободной. Тем самым, общество, подчинённое государству, стремится бессознательно подчинить меня себе».
Раб, не ведая, что он раб, убеждает человека, как и он, рождённого свободным, в ярких красках описывая своё положение, что оно замечательно и необходимо и ему. Действенное рабство – которого не замечаешь.
И точно так же он твёрдо решил: «Пусть лучше я погибну, чем убью. Чужая смерть не прибавит мне радости и продлит не жизнь, а только существование. Рано или поздно мы все умрём. И что я оставлю после себя? Каково будет моё наследие? Человеколюбие или поддерживание жестоких нравов прошлого? Не лучше ли пострадать, делая что-то из добрых побуждений, высоких представлений, чем всю жизнь жалеть, что не отважился сделать то, что считал нужным, нечто стоящее? Ведь, если не существует никаких определённых, общих для всех ценностей, то нет и смысла что-либо производить, раз всё обречено на разрушение. Если мораль всего лишь политическая условность, направляемая корыстными интересами, то жалка человеческая жизнь. Нет морали – нет и справедливости. Нет и жизни – только существование, воспроизведение себе подобных и небытия. Только нравственность делает человека человеком. Лучше я умру в более раннем возрасте, но с чистой совестью, нежели проведу остаток жизни в унылом однообразии серых дней сожаления и раскаяния. Деньги приходят-уходят; имущество приобретается-продаётся; человек кочует с места на место – всё материально, а материя всегда обыденна и потому не способна принести полного удовлетворения, подлинного. Лишь временное утешение. Только нравственные ценности пребывают с человеком на протяжении всей жизни и остаются с ним до конца.
Принятие присяги будет означать отречение от исповедуемых принципов непричинения зла ради материальных богатств и жизни во имя недвижимости и прочего имущества».
В подобных мыслях он перенёсся в зал суда, где наделённый властью человек, облачённый в мантию судьи, и в овечьем парике сидел за высоким дубовым столом, с грациозной мягкостью расположив на его гладкой поверхности нежные ладони, ничего в жизни, кроме деревянного молоточка, не державшие, пальцы которых были украшены кольцами и перстнями с драгоценными камнями, словно пианист. Лицо, выражавшее строгость и презрение к подсудимому, сознание власти над ним, слегка смягчилось; голова чуть подёрнулась вперёд, и левая ладонь простёрлась, жестом дирижёра указывая, что подсудимый имеет слово. Ситуация напоминала средневековье.
Леонид произнёс:
– Меня назовут непатриотом, если я откажусь подчиниться воле правителя убивать тех, кого он заклеймит врагом. А я отвечу: разве ты, поклявшийся служить на благо своего народа, любишь его, отправляя на бойню по причине своих разногласий с правителем другой страны? И не говори, будто это в интересах народа, это угодно лично тебе! – Он помолчал, собираясь с духом, и закончил. – Ответь мне, ты, считающий себя выше остальных, разве рождён ты иным способом, нежели другие? И не обратишься в прах, подобно остальным?
Моментально взорвётся толпа – крики, рукоплескания, брань и плевки полетят в жертву. Судья, вскачив, забарабанит молотком, переломив его надвое и оставив вмятину на столе. И, возвысив голос над толпой разъярённых горожан трубно проорёт: «Виновен! Сжечь еретика!» Педантичные слуги правосудия невозмутимо подхватят под руки и под клич возмущения взбешённого скопища дикарей сопроводят вольнодумца на костёр.
Да, то время миновало, и сейчас людей уже не сжигают. Но казни существуют, массовая истерия и ослепление ненавистью, нетерпимостью, жажда крови по-прежнему присущи человеку в неменьшей степени. И, раз уродливые, гнойные симптомы остались, явствует, что ничего не изменилось в нравах. Организм всё так же страдает, медленно, но неуклончиво испытывая муки агонии, неминуемо ведущей к смерти, полной боли и слёз.
Размышления подобного рода ввели Леонида в состояние подавленности, из которого, несмотря на оказываемое наплывавшими реалиями давление, он не собирался выходить. Необходимо было дознаться, достучаться разумом до правоты сердечных колебаний, до природы человеческой души и принять её как вечную, неизменную истину.
Вновь водворился зал заседаний, но уже областного суда. Немного иное помещение, осовремененное, несколько другое облачение, совсем не те причёски – и только воззрения остались нетронутыми. Эволюция не коснулась их.
Леонид не терпел жалости к себе, презирал самолюбование и даже, находясь один в комнате, не мог допустить мысли видеть себя жертвой. Но важно было прочувствовать несостоятельность доводов, несправедливость господствующих идей, вызванных ошибочным, не любовным, а бессрочно-кредиторским, добывательским отношением к жизни.
И потому перед судьёй, присяжными, прокурором и прочим праздно шатающимся людом, ставшим целевой аудиторией, стоял не Леонид, а его ровесник – безликий и безымянный паренёк, не защищающийся, а отстаивающий свою правду, вложенную Леонидом.
– Можете делать со мной, что угодно, но в армию я не пойду. Более того, судиться с вами я так же не собираюсь, потому что не уважаю ни армию как учреждение, ни суды и всё, что в них творится. Мне не нужен адвокат, поскольку я не желаю защищаться изворотами в пробелах придуманных человеком законов. Цель, которую я ставлю перед собой, – попытаться поднять ваше сознание, воззвав к голосу совести. Я – человек со своими воззрениями, мечтами и надеждами и хочу поступать согласованно со своими представлениями о мире, а не так, как мне навяжут извне, да ещё под покровом заклеймённой в торжественность лжи, бессовестной, которая оправдает любое зло, если оно одобрено правителями или теми, кто возомнил себя ими. Потому для меня более приемлем вариант тюремного заключения, который я приму с чистой совестью, нежели службу тому, что считаю рабством, преступлением, злом. Но кабальная бюрократическая система штрафов не считается с мнением живого человека. – Потом, повернувшись к заплаканной матери, он добавил:
– Мама, я не сделал ничего плохого, я всего лишь против насилия, к которому принуждает меня государство. Я против убийства, и за нежелание служить злу и разрушению меня осуждают на тюремное заключение. Разве можно после этого утверждать, что государство заботится о своих гражданах, и ратовать за проводимую им политику. Мама, – произнёс он с дрожью в голосе, – тебе не в чем упрекнуть меня – я только хочу добра всем людям и мира без войны.
Сочувствие и сострадание вызвало мелькнувшее видение. Леонид почувствовал расположение к юноше, выражавшему его мысли. В его словах звучала та правда, которую во всей полноте способно различить только сердце. То немногое произнесённое подняло массу отдельных, словно пульс, состоящий из повторяемых ударений, позволяющих организму поддерживать существование, душевных откликов солидарности миролюбивому отношению мальчика и приверженности к справедливости, на выражение которых словами ушёл бы не один год. Но наряду с восхищением перед природной добротой, ставшей в созданных человеком условиях эталоном мужества, присутствовало равносильное чувство сожаления и скорби от понимания, что стремлению к идеалу неотступно сопутствуют страдания близких. И каким бы сильным ни было желание идти намеченной тропой, насколько бы верным не казался выбранный путь, ощущение неблагодарности перед любимым человеком невозможно игнорировать. Впитанные ласка, нежность, забота больно колют, сковывая и подвергая сомнению правильность суждений. Такова пламенная любовь родителей или преданной жены, неумолимая доводами рассудка, вполовину самоотверженная – вполовину эгоистичная.
Разрываясь между страхом перед ответственным шагом, намеренным, уже обязательно должным стать поступком, и сопряжёнными с ним возможными последствиями, Леонид вспомнил, что существует ещё один вариант. В университете, проходя положения военной службы, они лишь мельком коснулись дополнительного аспекта, предлагаемого государством в качестве замены армии – альтернативная гражданская служба.
Религиозной составляющей в его выборе не присутствовало; к народам, названными властями коренными, он так же не принадлежал. Но убеждения подходили под определённые составляющие термина.
И хоть АГС и освобождала от тюрьмы, страх не ушёл. Поскольку причиной его был вовсе не испуг при мысли о помещении в учреждение для заключённых под стражу, а непримиримость общественного мнения и возможное осуждение с его стороны.
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне». «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
Леонид оделся и отправился в военкомат. Спросив у женщины, сидящей на входе, с кем можно поговорить об альтернативной службе, призывник получил от вахтёрши неопределённые указания номера кабинета. Поднявшись на второй этаж и заглянув в комнату двадцать два, Леонид поинтересовался о возможности заменить военную службу на альтернативную.
В ответ ему недоумённо-неуверенно предложили подняться в тридцать второй кабинет, что прямо у них над головой. Минута, и Леонид возле двери. Робким движением он постучал, а затем дрожащими пальцами нажал на ручку и просунул голову.
– Здравствуйте, можно?
– Здравствуйте. Проходите.
За столом в одиночестве сидела девушка лет двадцати пяти. Эта неожиданность (Леонид предполагал застать какого-нибудь офицера) придала Леониду уверенность. Притворив дверь, он спокойно проследовал к столу.
– У меня вопрос, – начал он бойко, – я хотел бы заменить службу в армии альтернативной гражданской. К кому мне обратиться?
Девушка отпряла от писанины и поглядела косо.
– Почему?
– По убеждениям.
– Вы из «Свидетелей Иеговы?»
– Нет. – ответил Леонид, слегка улыбнувшись: «Как люди всё-таки подвластны предубеждениям».
Девушка, нисколько не смутившись, исполняя свой долг, продолжила.
– Тогда Вам следует написать заявление.
– Да? – обрадовался Леонид. – Так давайте, я прям сейчас и напишу.
– Это нужно оформить в печатном виде, дополнить автобиографией и… Вы учитесь, работаете?
– Учусь.
– …и приложить характеристику с места учёбы.
– Ааа. – протянул Леонид осевшим голосом. – И есть какой-то образец заявления или можно самому написать?
– Образец есть в интернете. Введите «заявление на альтернативную гражданскую службу», и он выдаст Вам пример. Скопируйте его, обоснуйте причины и приносите нам.
– А у Вас нет образца?
– Нет.
– Ясно, спасибо. До свидания.
– До свидания.
Уже на улице его поразило неведение и неготовность работников военкомата к просьбам, подобным леонидовой. Конечно, он знал, что случаи замены воинской повинности гражданской редки, необычны, но думалось, раз существует закон, контролирующий деятельность военкомата, то он должен быть готов к тому, что призывник обратится с данным вопросом. На деле же получалось, далеко не все знают, что должно знать, и ничего конкретного дать не могут. Будто закон существует только на бумаге, где-то в уголке. Несмотря на это и на то, что лишний раз придётся сюда вернуться, Леонид был воодушевлён. Механизм запустился, движение начато – теперь будет легче.
Вернувшись домой, Леонид погрузился в сеть в поисках заявления. Провозившись минут тридцать, из которых Леонид вместо конкретного образца добыл лишь отдельные, индивидуальные по своему оформлению заявления, он понял, что дальнейшие поиски бесполезны. Слишком мало случаев. Приходилось работать с тем, что имелось. Сочинять.
Все заявления были короткими, и Леонид решил не разводить антимонию. К тому же от него не требовались объяснения, на исследование которых могла уйти вся жизнь, только причины. Он написал: