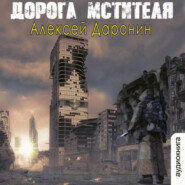По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Час скитаний
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Площади, где могли бы стоять десять тысяч человек плечом к плечу. Громадные пустые набережные, где сразу представляешь пришвартованные корабли: и железные – с трубами и колёсами, и деревянные – с мачтами и парусами. А на берегах Невы и огромного залива стояли колонны, типа античных, и каменные львы сидели, как часовые. Ступени спускались прямо в воду, украшенные гранитными шарами, а со стенок набережных смотрели и скалились рельефные львиные морды. Прямо Древняя Греция с Римом. И всё одето в мрамор или в гранит… из которых, как Молчун думал раньше, только памятники на кладбищах делают.
Это место и было одним большущим памятником. И кладбищем, старым некрополем, тоже было. Но это уж – как везде.
* * *
Закат медленно догорел. Они с Анжелой сидели в спальне, которая была раньше частью небольшой квартиры прежних людей. Вроде бы тут когда-то жили студенты, имевшие семью. Все остальные комнаты вдоль длинного коридора, кроме этой, были закрыты, и на многих дверях висели ржавые цепи или были нарисованы предупреждающие знаки. Некоторые были просто заколочены. Никаких особых опасностей там, конечно, не было, кроме гнилого пола и балконов, которые при вставании на них могли очень быстро доставить человека вниз, но далеко не в целом виде.
Потрескивали – а иногда и просто хлопали – дровишки в железной печи, труба-дымоход которой была выставлена на улицу через окно. Половина его была заделана фанерой. Иногда даже летом приходилось топить.
На блюде лежали нарезанная кружками колбаса, мелкие яблоки, буроватый хлеб и пирожки с ливером. Чьим ливером – неясно, но для своих повар трактира не стал бы халтурить. Вряд ли кошка. Много ли в ней ливера-то?
В высоких кружках – настоящий чай. Импортная заварка из-за моря. Не из пайка, а купленная на толкучке в Парке Декабристов. Можно иногда себя побаловать, хотя особой разницы Молчун не чувствовал. Хоть чабрец, хоть пустырник заваривай, а всё одно без сахара – трава травой. Зато с сахаром любая бурда кажется сладким чаем и божественным напитком.
«А ты знаешь, почему печка называется «буржуйка»? – как-то спросила Анжела Молчуна, откинувшись в кресле и укрывшись пледом.
«Ясное дело. До войны только богатым буржуям были доступны такие, поэтому и называется».
Почему-то она долго смеялась. А он насупился и не обиделся только потому, что знал: обижаться на женщин – самое бесполезное занятие.
Но вообще-то было неприятно. До того, как он попал сюда, в любой деревне, куда его заносила судьба, все ахали – какой умный да какой образованный юноша, читать и писать умеет, цифры и числа знает… Впрочем, уже не юноша, а мужчина в самом расцвете сил, который теперь начинался лет в двадцать. И он, слава богу, помнил, в какой книжке было такое выражение.
Но здесь он числился как дикарь и бревно, и каждый дурак ему об этом напоминал. Хоть сапожник, хоть пирожник, хоть подавальщица в трактире, которая могла в свободное время читать какого-нибудь Коэльо.
Не говоря уже о таких людях, как Самуил Олегович Баратынский – мажордом магната Кауфмана. Мажордом – это нечто среднее между завхозом и главой администрации.
Его заказ Молчун только вчера наконец-то выполнил, хотя и пришлось для этого попотеть.
Вот тот был сноб высшей пробы. И жмот. Да и заказы его – из самых сложных. Мог забраковать товар, который выглядел идеально, только где-нибудь уголок страницы был оторван. Но отказываться даже от такой работы глупо.
Или учёный Денисов, для которого он доставил из Пулково целый ящик деталей для старинного телескопа. Мимо оборвышей, Карл! (И почему прежние постоянно упоминали этого Карла?)
Молчун думал, тот будет смотреть с помощью линз и трубок на звёзды, однако учёный сказал, что это для истории. Для музея. Но хорошо заплатил. А ещё для него же Молчун добывал редкие книги с ятями.
Люди тут на Острове были диковинные. И звездочёт, в общем-то нормальный мужик, был не самым странным.
Был ещё Коровин, потомок каких-то академиков, который занимался рыбным бизнесом. У него имелось сразу несколько необычных хобби. Он называл себя таксидермистом. Слово звучало почти как министр, но другие чаще называли его Чучельником. Говорили, что иногда он одевается царём Петром Первым и марширует у себя по застеклённой веранде в старинной шапке-треуголке, со шпагой. А ещё – что у него в огромном доме самая большая коллекция манекенов. Одежду для них приносил ему тоже Молчун. Ходили слухи, что среди них стоят и мумии, сделанные из трупов, среди которых есть даже две его последние жены. Но то, что его особняк украшен чучелами зверей, Молчун видел, и выглядели те тигры и львы как живые.
«Это Питер, детка». Так все говорили.
Первый раз он за эту фразу чуть в морду не дал. Вроде бы это сказал ему армянин Ашот Ашотыч, принимая на ремонт ботинки. Сказал, мотивируя высокую цену. Потом Молчун понял, что это просто выражение такое. И обидного в слове «детка» ничего нет.
Хотя, конечно, командиру отряда или одному из магнатов такое не скажешь.
В первые дни, когда только поселился тут, Молчун часто ходил посмотреть на разные чудеса. Тогда у него не было службы, а только временные шабашки в порту и на рынке. Поэтому и времени было полно. И чуть ли не открыв рот, он шастал среди каменных дворцов, колонн и статуй. Спускался к самой воде и подолгу стоял, глядя на её поверхность, на пену и солёные брызги, на здания на том берегу Большой или Малой Невы. И даже тот мусор и хлам, который выбрасывало на берег, казался ему тут более культурным и древним… Бросил он это дело, только когда увидел, что местные, даже торговки с лотков и лодочники, таращатся на него и посмеиваются в кулак. Нечего себя дикарём выставлять.
Собственно, Питером раньше называлась и та часть города, которая стояла на материке. Но это раньше. Сейчас Питером был только остров, а в материковой части города не жили даже оборвыши – настолько она была разрушенной, да и затопленной – сюда они только ходили на промысел из своих деревенек.
У местных была привычка называть всё, что за пределами Острова, «материком». Но технически это было не совсем точно. Ведь и то, что лежало непосредственно к югу, и то, что находилось к северу от Васильевского… тоже было островами, только другими!
Ведь исторический центр древнего города стоял в основном на островах.
На север отсюда – Петровский остров, а ещё севернее – Петроградский. А на юге – Адмиралтейский, которых раньше вроде бы было два, но теперь водная перемычка между ними оказалась засыпана обломками и затянута илом. Старые реки, которые текли тут испокон веков, в основном остались такими же, их русла, выложенные камнем, не изменились. Река Смоленка всё так же текла, отделяя от Острова его северную часть, которая раньше звалась островом Декабристов (сейчас она воспринималась как неотделимая его часть). А вот из прокопанных людьми каналов многие исчезли. Например, Крюков канал и канал Грибоедова. В других местах появились водные пространства и пути там, где их до Волны не имелось. Всё изменилось, даже уровень воды.
* * *
Иногда открывали форточку, потому что из-за печки комната постепенно наполнялась запахом дыма. Ветер дул с моря, и было очень свежо. Рядом с открытой форточкой дышалось легко. Хотя у всего была обратная сторона. При таком ветре, если у тебя нет крыши над головой и дров, ты и летом можешь простыть и загнуться, даже если температура не падает ниже плюс пятнадцати. Тут из-за влажности от любой температуры надо отнимать десять-пятнадцать градусов – и тогда получится то, что реально ощущаешь.
С непривычки он первое время часто болел, и даже простуда здесь была другая, более сопливая и мерзкая. Но потом организм приспособился.
Этот дом считался сухим. В зданиях, где годами стояла вода в подвале, было сыро даже сейчас, в самый тёплый месяц лета. И комары, и прочая гнусь водилась. Да и рухнуть они могли в любой момент. А их дом всё ещё был крепким, хотя железобетон давно исчерпал все сроки, на которые рассчитывался.
Говорили, что в прежние годы воды было больше. Что сразу после Бомбы (так здесь иногда называли то, что произошло в августе 2019-го) она побывала не только в подвале каждого дома, но и на первых этажах, а где-то и на вторых…
А на материке за проливом ещё хуже. Многие дома до сих пор затоплены аккурат до потолка первого этажа – вода стояла в комнатах, а жильцами были только пучеглазые рыбы. Остров был более высокой точкой, чем материк, поэтому здесь таких домов мало.
Собственно, именно проливы охраняли остров от тех, кому тут были не рады. Но в шутку эту границу все местные называли «Поребрик». Так тут звался обычный бетонный бордюр.
«Давно ли из-за Поребрика?».
«Караван из-за Поребрика привезёт бенз и дизель».
«Посмотри на его рожу, он точно за Поребриком живёт…».
«Завтра идём в рейд за Поребрик, оборвышей гонять».
Оборвышами называли тех, кто жил по ту сторону водной преграды. То есть всех остальных. Расстояние значения не имело, поскольку других настоящих русских городов, по мнению островитян, больше не существовало. Но в его присутствии Анжела это слово не произносила. Наверное, не хотела обижать. Хотя ему было по фигу.
– А не пора переходить к более близким отношениям? – произнёс Молчун, закрывая форточку, чтобы не дуло.
Он подсел к девушке поближе, но она не пустила его под плед, капризно отодвинувшись. Плед был в крупную красную клетку. Томик японского автора со смешным именем Харуки, который он ей подарил, лежал рядом на красивом столике с гнутыми ножками. Он до сих пор помнил, как добыл эту книжицу из магазина «Читальная страна». Была запаяна в пленку, поэтому не истлела. И выглядит, будто недавно отпечатали.
– А тебе мало того, что ты получаешь? – улыбнулась она.
– Всегда хочется большего. Никто всё равно не поверит, что мы ни разу…
– Не целовались? – переспросила его подруга с усмешкой. На ней под пледом было что-то очень легкое. Может, короткая ночная рубашка из шёлка, а может, необычное бельё, которое тоже он подарил, найдя сносное в одном контейнере на Петроградской стороне. Он мало что покупал или менял на рынке. Больше находил. У работы сталкера свои плюсы.
– Да нет, – махнул он рукой. Целовались-то они достаточно. И не только. – Ты понимаешь, о чём я. Знакомы давно вроде бы. Общаемся, проводим время…
– И ты думаешь, что уже пора… а? – она его слегка дразнила, издевалась. Над его неловкостью, которая то ли проистекала из неопытности, то ли была врождённой.
– Да блин, я этого не говорил. Может, и пора. Но никто на тебя не давит. Ты же свободная. Не рабыня.
Когда он впервые увидел на доске объявление «Продаются рабы! Недорого», то прочитал неправильно – «Продаётся рыба». Настолько его это шокировало. Рыбу на той же площади действительно продавали, но в этот раз речь шла о людях… И он видел этих людей. На них не было ни цепей, ни клейма, но трудно было не заметить, кто они такие.
Рабов в городе имелось немного и, конечно, экономика не на них держалась – в основном они выполняли грязную и унизительную работу. Убирали нечистоты, рыли могилы и хоронили покойников, солили рыбу из самого плохого сырья. Женщины – торговали своим телом, не имея возможности даже оставить себе полученное за это, кроме синяков. Мужчины – работали на скотобойне и в рыбных бараках. Про гладиаторские поединки он тоже слышал, хоть там вроде и не до смерти дрались, а только до отключки. Но это почти одно и то же – ведь нормальной медицинской помощи не было. Самому ему и в голову не пришло бы зарабатывать этим на жизнь.
Иногда их стыдливо называли работниками. Но часто не стеснялись. Ещё поговаривали, что некоторые из личных слуг магнатов тоже свободно прогуливаться не могут и имеют татуировку со «штрихкодом». Но эти уж точно жили лучше, чем оборвыши за Поребриком. Да и вообще о побегах мало было слышно. Остров хоть и невелик, спрятаться на нём можно, но не будешь же всю жизнь прятаться? А переплыть Неву… фишка в том, что большинство «ценных работников» считали, что живут лучше, чем запоребриковые. Да и плавали они плохо, от недоедания быстро обессилевали.
Это место и было одним большущим памятником. И кладбищем, старым некрополем, тоже было. Но это уж – как везде.
* * *
Закат медленно догорел. Они с Анжелой сидели в спальне, которая была раньше частью небольшой квартиры прежних людей. Вроде бы тут когда-то жили студенты, имевшие семью. Все остальные комнаты вдоль длинного коридора, кроме этой, были закрыты, и на многих дверях висели ржавые цепи или были нарисованы предупреждающие знаки. Некоторые были просто заколочены. Никаких особых опасностей там, конечно, не было, кроме гнилого пола и балконов, которые при вставании на них могли очень быстро доставить человека вниз, но далеко не в целом виде.
Потрескивали – а иногда и просто хлопали – дровишки в железной печи, труба-дымоход которой была выставлена на улицу через окно. Половина его была заделана фанерой. Иногда даже летом приходилось топить.
На блюде лежали нарезанная кружками колбаса, мелкие яблоки, буроватый хлеб и пирожки с ливером. Чьим ливером – неясно, но для своих повар трактира не стал бы халтурить. Вряд ли кошка. Много ли в ней ливера-то?
В высоких кружках – настоящий чай. Импортная заварка из-за моря. Не из пайка, а купленная на толкучке в Парке Декабристов. Можно иногда себя побаловать, хотя особой разницы Молчун не чувствовал. Хоть чабрец, хоть пустырник заваривай, а всё одно без сахара – трава травой. Зато с сахаром любая бурда кажется сладким чаем и божественным напитком.
«А ты знаешь, почему печка называется «буржуйка»? – как-то спросила Анжела Молчуна, откинувшись в кресле и укрывшись пледом.
«Ясное дело. До войны только богатым буржуям были доступны такие, поэтому и называется».
Почему-то она долго смеялась. А он насупился и не обиделся только потому, что знал: обижаться на женщин – самое бесполезное занятие.
Но вообще-то было неприятно. До того, как он попал сюда, в любой деревне, куда его заносила судьба, все ахали – какой умный да какой образованный юноша, читать и писать умеет, цифры и числа знает… Впрочем, уже не юноша, а мужчина в самом расцвете сил, который теперь начинался лет в двадцать. И он, слава богу, помнил, в какой книжке было такое выражение.
Но здесь он числился как дикарь и бревно, и каждый дурак ему об этом напоминал. Хоть сапожник, хоть пирожник, хоть подавальщица в трактире, которая могла в свободное время читать какого-нибудь Коэльо.
Не говоря уже о таких людях, как Самуил Олегович Баратынский – мажордом магната Кауфмана. Мажордом – это нечто среднее между завхозом и главой администрации.
Его заказ Молчун только вчера наконец-то выполнил, хотя и пришлось для этого попотеть.
Вот тот был сноб высшей пробы. И жмот. Да и заказы его – из самых сложных. Мог забраковать товар, который выглядел идеально, только где-нибудь уголок страницы был оторван. Но отказываться даже от такой работы глупо.
Или учёный Денисов, для которого он доставил из Пулково целый ящик деталей для старинного телескопа. Мимо оборвышей, Карл! (И почему прежние постоянно упоминали этого Карла?)
Молчун думал, тот будет смотреть с помощью линз и трубок на звёзды, однако учёный сказал, что это для истории. Для музея. Но хорошо заплатил. А ещё для него же Молчун добывал редкие книги с ятями.
Люди тут на Острове были диковинные. И звездочёт, в общем-то нормальный мужик, был не самым странным.
Был ещё Коровин, потомок каких-то академиков, который занимался рыбным бизнесом. У него имелось сразу несколько необычных хобби. Он называл себя таксидермистом. Слово звучало почти как министр, но другие чаще называли его Чучельником. Говорили, что иногда он одевается царём Петром Первым и марширует у себя по застеклённой веранде в старинной шапке-треуголке, со шпагой. А ещё – что у него в огромном доме самая большая коллекция манекенов. Одежду для них приносил ему тоже Молчун. Ходили слухи, что среди них стоят и мумии, сделанные из трупов, среди которых есть даже две его последние жены. Но то, что его особняк украшен чучелами зверей, Молчун видел, и выглядели те тигры и львы как живые.
«Это Питер, детка». Так все говорили.
Первый раз он за эту фразу чуть в морду не дал. Вроде бы это сказал ему армянин Ашот Ашотыч, принимая на ремонт ботинки. Сказал, мотивируя высокую цену. Потом Молчун понял, что это просто выражение такое. И обидного в слове «детка» ничего нет.
Хотя, конечно, командиру отряда или одному из магнатов такое не скажешь.
В первые дни, когда только поселился тут, Молчун часто ходил посмотреть на разные чудеса. Тогда у него не было службы, а только временные шабашки в порту и на рынке. Поэтому и времени было полно. И чуть ли не открыв рот, он шастал среди каменных дворцов, колонн и статуй. Спускался к самой воде и подолгу стоял, глядя на её поверхность, на пену и солёные брызги, на здания на том берегу Большой или Малой Невы. И даже тот мусор и хлам, который выбрасывало на берег, казался ему тут более культурным и древним… Бросил он это дело, только когда увидел, что местные, даже торговки с лотков и лодочники, таращатся на него и посмеиваются в кулак. Нечего себя дикарём выставлять.
Собственно, Питером раньше называлась и та часть города, которая стояла на материке. Но это раньше. Сейчас Питером был только остров, а в материковой части города не жили даже оборвыши – настолько она была разрушенной, да и затопленной – сюда они только ходили на промысел из своих деревенек.
У местных была привычка называть всё, что за пределами Острова, «материком». Но технически это было не совсем точно. Ведь и то, что лежало непосредственно к югу, и то, что находилось к северу от Васильевского… тоже было островами, только другими!
Ведь исторический центр древнего города стоял в основном на островах.
На север отсюда – Петровский остров, а ещё севернее – Петроградский. А на юге – Адмиралтейский, которых раньше вроде бы было два, но теперь водная перемычка между ними оказалась засыпана обломками и затянута илом. Старые реки, которые текли тут испокон веков, в основном остались такими же, их русла, выложенные камнем, не изменились. Река Смоленка всё так же текла, отделяя от Острова его северную часть, которая раньше звалась островом Декабристов (сейчас она воспринималась как неотделимая его часть). А вот из прокопанных людьми каналов многие исчезли. Например, Крюков канал и канал Грибоедова. В других местах появились водные пространства и пути там, где их до Волны не имелось. Всё изменилось, даже уровень воды.
* * *
Иногда открывали форточку, потому что из-за печки комната постепенно наполнялась запахом дыма. Ветер дул с моря, и было очень свежо. Рядом с открытой форточкой дышалось легко. Хотя у всего была обратная сторона. При таком ветре, если у тебя нет крыши над головой и дров, ты и летом можешь простыть и загнуться, даже если температура не падает ниже плюс пятнадцати. Тут из-за влажности от любой температуры надо отнимать десять-пятнадцать градусов – и тогда получится то, что реально ощущаешь.
С непривычки он первое время часто болел, и даже простуда здесь была другая, более сопливая и мерзкая. Но потом организм приспособился.
Этот дом считался сухим. В зданиях, где годами стояла вода в подвале, было сыро даже сейчас, в самый тёплый месяц лета. И комары, и прочая гнусь водилась. Да и рухнуть они могли в любой момент. А их дом всё ещё был крепким, хотя железобетон давно исчерпал все сроки, на которые рассчитывался.
Говорили, что в прежние годы воды было больше. Что сразу после Бомбы (так здесь иногда называли то, что произошло в августе 2019-го) она побывала не только в подвале каждого дома, но и на первых этажах, а где-то и на вторых…
А на материке за проливом ещё хуже. Многие дома до сих пор затоплены аккурат до потолка первого этажа – вода стояла в комнатах, а жильцами были только пучеглазые рыбы. Остров был более высокой точкой, чем материк, поэтому здесь таких домов мало.
Собственно, именно проливы охраняли остров от тех, кому тут были не рады. Но в шутку эту границу все местные называли «Поребрик». Так тут звался обычный бетонный бордюр.
«Давно ли из-за Поребрика?».
«Караван из-за Поребрика привезёт бенз и дизель».
«Посмотри на его рожу, он точно за Поребриком живёт…».
«Завтра идём в рейд за Поребрик, оборвышей гонять».
Оборвышами называли тех, кто жил по ту сторону водной преграды. То есть всех остальных. Расстояние значения не имело, поскольку других настоящих русских городов, по мнению островитян, больше не существовало. Но в его присутствии Анжела это слово не произносила. Наверное, не хотела обижать. Хотя ему было по фигу.
– А не пора переходить к более близким отношениям? – произнёс Молчун, закрывая форточку, чтобы не дуло.
Он подсел к девушке поближе, но она не пустила его под плед, капризно отодвинувшись. Плед был в крупную красную клетку. Томик японского автора со смешным именем Харуки, который он ей подарил, лежал рядом на красивом столике с гнутыми ножками. Он до сих пор помнил, как добыл эту книжицу из магазина «Читальная страна». Была запаяна в пленку, поэтому не истлела. И выглядит, будто недавно отпечатали.
– А тебе мало того, что ты получаешь? – улыбнулась она.
– Всегда хочется большего. Никто всё равно не поверит, что мы ни разу…
– Не целовались? – переспросила его подруга с усмешкой. На ней под пледом было что-то очень легкое. Может, короткая ночная рубашка из шёлка, а может, необычное бельё, которое тоже он подарил, найдя сносное в одном контейнере на Петроградской стороне. Он мало что покупал или менял на рынке. Больше находил. У работы сталкера свои плюсы.
– Да нет, – махнул он рукой. Целовались-то они достаточно. И не только. – Ты понимаешь, о чём я. Знакомы давно вроде бы. Общаемся, проводим время…
– И ты думаешь, что уже пора… а? – она его слегка дразнила, издевалась. Над его неловкостью, которая то ли проистекала из неопытности, то ли была врождённой.
– Да блин, я этого не говорил. Может, и пора. Но никто на тебя не давит. Ты же свободная. Не рабыня.
Когда он впервые увидел на доске объявление «Продаются рабы! Недорого», то прочитал неправильно – «Продаётся рыба». Настолько его это шокировало. Рыбу на той же площади действительно продавали, но в этот раз речь шла о людях… И он видел этих людей. На них не было ни цепей, ни клейма, но трудно было не заметить, кто они такие.
Рабов в городе имелось немного и, конечно, экономика не на них держалась – в основном они выполняли грязную и унизительную работу. Убирали нечистоты, рыли могилы и хоронили покойников, солили рыбу из самого плохого сырья. Женщины – торговали своим телом, не имея возможности даже оставить себе полученное за это, кроме синяков. Мужчины – работали на скотобойне и в рыбных бараках. Про гладиаторские поединки он тоже слышал, хоть там вроде и не до смерти дрались, а только до отключки. Но это почти одно и то же – ведь нормальной медицинской помощи не было. Самому ему и в голову не пришло бы зарабатывать этим на жизнь.
Иногда их стыдливо называли работниками. Но часто не стеснялись. Ещё поговаривали, что некоторые из личных слуг магнатов тоже свободно прогуливаться не могут и имеют татуировку со «штрихкодом». Но эти уж точно жили лучше, чем оборвыши за Поребриком. Да и вообще о побегах мало было слышно. Остров хоть и невелик, спрятаться на нём можно, но не будешь же всю жизнь прятаться? А переплыть Неву… фишка в том, что большинство «ценных работников» считали, что живут лучше, чем запоребриковые. Да и плавали они плохо, от недоедания быстро обессилевали.