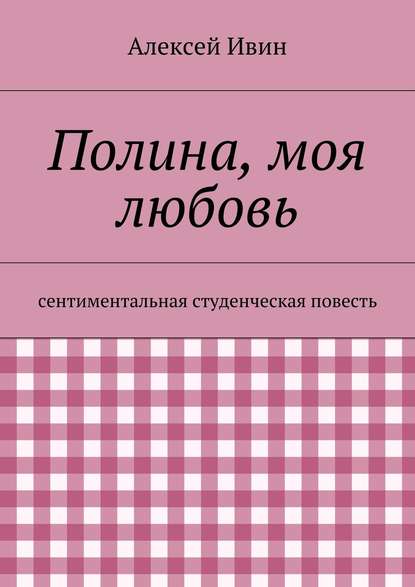По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полина, моя любовь. сентиментальная студенческая повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Секушин, дай поспать, ну тебя на хрен, – проворчал Берестов и отвернулся к стене.
– Нет, Валера, ты мне ответь, как она тебе? На втором курсе, я же знаю…
На моих губах еще горели поцелуи, так что я хотел определенно знать, с кем Полина так напрактиковалась целоваться.
– Ну, что тебе сказать? – неохотно и риторически отозвался Берестов. – Глупая она, во-первых. И во-вторых, и в-десятых, и прежде всего. У нее тетка на физмате преподает, она ее и устроила. В Новгородской губернии есть такой городишко – Берендеевск, оттуда она. Как будто местных дур здесь недостаток.
– Слишком уж ты взыскателен к людям, – пробормотал я, потому что спокойный и совершенно убежденный отзыв Берестова смутил меня тем, что решительно не вязался с моими восторженными представлениями о Полине.
Все желания сводились к одному – повидать Полину. Пятнадцать раз я принимался будить Грачева, чтобы пойти с ним позавтракать остатками пира, но он спал непробудно. Наконец к вечеру проснулся. И мы пошли.
Ужин протекал непринужденно (Грачев уже давно был своим человеком в 68 комнате, да и я освоился), лишь Валентина посматривала насмешливо: оказывается, Полина все ей разболтала. Девушки вскоре ушли, исчез и Грачев с Валентиной, мы остались одни. Я запер комнату: не терпелось (двадцать два года, самое, как говорится, то). Но был наказан за самонадеянность и полчаса потратил, чтобы растопить ледяную корку, образовавшуюся, пока мы не виделись. Рудокоп с таким остервенением не добирается до угольного пласта, погребенного под обвалом, с каким я добирался до губ. Но вот они, желанные! Пальцем потушив стеариновую свечку, я целуюсь охотно, потому что люблю.
Нет слов, чтобы передать ощущения, все слова бессильны, нежизненны, литература представляется мне дрянным суррогатом действительности; одни женские губы, если их целовать взасос, а потом дать языку проскользнуть внутрь, а потом бороться языками, а потом целовать справа налево, а потом слева направо, а потом комкать одну верхнюю губу, а потом присосаться к уголку рта, а потом ласковым касаньем осушить влагу, а потом смочить и углубиться во влажное тепло, а потом крепко впиться, так, чтобы встретились ее тридцать два и мои шестнадцать зубов, – одни женские губы (если в новинку) затмевают, по моему разумению, всякую словотворческую поэзию. И можно ли передать прозой, даже и а-ля маркиз де Сад, все те прозаические плотские вожделения, которые владеют тобой при этом? А если в эту минуту раздается стук в дверь, чего стоят драмы?
Полина отшатнулась. Стук повторился сильней и настойчивей. Когда мы открыли, кой-как приведя себя в порядок, вошла очень тонкая, красивая девушка: ей что-то понадобилось взять (общага, ничего не поделаешь, все друг у друга что-нибудь занимают). Она вскоре ушла, насмешливо покосившись на нас. И между нами вновь образовалась трещина. Я не имел сил начинать все сначала и поэтому простился. Вообще довольно гадостно (извините за вульгаризм), когда негде уединиться, чтобы не спеша и со всевозможным вкусом отдаться друг другу; но, видно, так уж мы скученно живем. По совести говоря, я был даже доволен, что нам помешали, наш пыл охладили и нас на время разъединили те некие высшие, как мне казалось с моими врожденными телеологическими установками, контрольные силы, которые следят, чтобы злой умысел не простирался, и добрые намерения торжествовали. Потому что ну что же я мог в то время предложить Полине в ответ на ее любовь, – что, кроме честолюбивых надежд?
Глава 4
Итак, я снова влюблен. Да здравствует любовь! Сверху донизу все во мне перевернулось, в щепы разлетелись все жизненные теории, сердце трепещет в груди, на губах я ношу ее поцелуи; минута без нее, один час, один день так мучительны! Самолюбивая гордость, только она препятствовала мне в тот же день опять пойти к Полине. И все же желание пересилило, я пошел, и как хорошо, что дверь ее комнаты оказалась заперта. Я спохватился и понял, что излишне горячусь: я выдал бы свою любовь, если бы пришел после того, как мы уже простились; к тому же, я не был уверен, что меня любят.
Наутро через записку и сводные услуги Грачева я назначил Полине свидание; я был уверен, что она придет, ибо кто же обрывает связь в самом начале, не дойдя до решительного противоречия или охлаждения?
День прошел в суетне, в сутолоке, но я помнил о встрече и ждал ее. Было семь часов вечера, а мне оставалось пройти прямой аллеей еще целых два квартала, чтобы выйти к В е ч н о м у о г н ю, где было назначено свидание; я опаздывал. В группе людей, стоявших возле мраморной плиты и смотревших в огонь, я не сразу увидел Полину, а когда она обернулась, поразился ее красоте. Я извинился за опоздание, пряча свой побагровевший от мороза нос в шерстистый шарф. Пальцы наших рук сплелись, и по широким ступеням мы вышли на площадь. Вслед донеслись звуки печального реквиема – погребального плача по убитым на войне. Убитые, что вы делили? Усопшие, почему вы стреляли друг в друга?
Тыльная сторона моей ладони прижималась к ее бедру, тыльная сторона ее ладони прижималась к моему бедру, – так тесно мы шли. Уничиженный ее красотой, благодарный ей за то, что она пришла, я был в экстатическом состоянии солнцепоклонника. Мы прошли по вечерним улицам к Софийскому собору, а оттуда вдоль крепостной стены с бойницами, прикрытой голыми шеренгами берез, углубились в парк, где летом цвел зеленый заглохший пруд, а теперь было бело и пустынно, чем я и воспользовался, чтобы поцеловать Полину, но она, упершись кулачками в мою грудь и улыбаясь длинными сочными губами, которых я, как ни ухитрялся, при поцелуе не мог собрать воедино, – Полина отказалась удовлетворить мою прихоть, и я, притворно попеняв, не настаивал. Мы говорили друг с другом о своем прошлом, – ведь за те два дня, что мы были знакомы, мы не успели сделать это. По набережной Логатовки мы прошли до моста под укоризненными взорами старух, возвращавшихся с богомолья, и направились к общежитию. На рельсах узкоколейки мы поцеловались дважды, трижды, не обращая внимания на мальчишек, игравших в войну возле автогаражей, и ее белая шапочка, сбившись на затылок, падала в снег; губы и щеки на морозе были холодны, кисло-сладки, как ягоды рябины после первых заморозков.
Я пытался проникнуть в общежитие, но был задержан вахтершей. Полина снабдила меня деньгами на поездку в Кесну. Наша встреча через неделю стала неотвратима.
Глава 5
Любовь требует противоречий. Таким противоречием для нас была невозможность видеться ежедневно. Дозированное счастье субботы я впитывал, как сухая губка влагу, и до новой встречи ссыхался и скрючивался, точно перекати-поле. Тем неукоснительнее я следовал девизу: carpe diem!
Я влюблялся и прежде, но переживал поражения и понимал, что в любви ум так же уместен, как и чувство, что самообладание в любви котируется высоко для всякого, кто не хочет прослыть посмешищем, не хочет, чтобы его чувство осталось безответным.
Не было сомнения в том, что на этот раз все будет иначе. Я боялся лишь одного – что Полина бросит меня, как только поймет, какой я ничтожный человек по сравнению с нею, как только получит доступ к моему внутреннему миру, в котором хаотически переплелись отчаяние и гордыня, тщеславие и душевная подавленность, низменные пороки и высокие мечты. Я просто благоговел перед нею, потому что она была совершенна, – сосуд, выточенный искуснейшим гончаром, творение, на котором запечатлелась благодать Божья.
Десятого января Полина, сдав экзамен по политэкономии на удовлетворительно, предстала передо мной в мягкой мохеровой блузке с запутанно сложным урбанистическим рисунком; кисточки кушака красиво покоились на левом бедре. Кольца завитых темно-каштановых волос обрамляли чистый лоб и вечно рдеющие щеки, спускаясь по лебединой шее. Истолковать улыбку ее глаз и губ смог бы разве опытный физиономист: счастье не счастье, любование собой, приветливость или предвкушение – бог знает…
Мы с трудом уединились. Та красивая девушка, что когда-то помешала нам, теперь предоставила свою комнату в наше распоряжение, бросив ключи на стол и с колкой дружелюбностью пожелав счастливо повеселиться. Взгляд, которым они обменялись, я перехватил, и мне показалось, что между ними определенный сговор; позже выяснилось, что так оно и было: Полина поклялась перед девушками из шестьдесят восьмой комнаты, что приручит меня. Я на миг почувствовал себя подопытной морской свинкой, но это длилось один миг, ибо в следующий я уже припал к голой шее губами и шептал:
– Здравствуй, Клубника-со-сливками!..
Такое прозвище я дал ей в первый же вечер.
Несколько мелких родинок спускались от мочки уха к ключице; я обнаружил их с восторгом золотоискателя, наткнувшегося на жилу.
Мой лексикон таит немало нежных слов; все они были произнесены. Было детское наслаждение для нас даже в том, чтобы мерить ладошки, ее и мою, даже в том, чтобы смотреть в глаза друг другу, даже в том, чтобы свивать шеи, как лошади вечером, когда гаснет заря и на луг выпадает роса.
Я еще не говорил ей о своей любви, потому что ничто меня не понуждало к этому. Я о чем-то пустячно спросил, и вовсе не обязательно было отвечать, и вдруг услышал:
– Да все дело-то в том, Андрюша, что люблю я тебя…
На мои чувства, на мои руки будто упала чугунная плита; я ощутил неловкость робкого ученика, которого похвалили перед классом. Вескость этих слов, серьезный грустный искренний взгляд в упор смутили меня. Нет слов, я был польщен, вознесен этим признанием, но и угнетен им: дело принимало оборот посерьезнее, чем простая интрижка. Скованным одной цепью, нам теперь не было возврата, и я ощутил себя в западне, как пьяница, замурованный в темнице с годовым запасом бургундского: вот выпью я это вино, а дальше-то что?
– Ну вот и хорошо, вот и чудесно… – только и сказал я, отводя взгляд: я не был готов к подобному признанию.
Полина заметила мою растерянность, подумала, что ей отказано во взаимности, и начала горько-шутливо-трогательно говорить о неразделенной любви. Уверяя ее, что она ошибается, я и сам признался: скованные одной цепью, споткнувшись, падают разом. Мы поцеловались, и душе-ангелу стало легко в заоблачных эмпиреях любви. Еще лобзанье. Еще. Еще.
Мы сидим на полированном раздвижном столике. На пол посыпались с него книги, тетради. Мы разражаемся счастливым, глуповатым смехом, но, вспомнив, что в соседней комнате нас могут услышать, начинаем шикать друг на друга, затихаем, как мышки, когда они, просунувшись из норы, перед которой лежит хлебная корка, озираются, нет ли близко кота, готовые юркнуть обратно при малейшем шорохе. Теперь мы очень близки, так близки, что не верится, возможна ли такая близость между людьми.
Мои желания не встречают сопротивления. Она обвивает руками мою шею, и я несу ее, покорную, и тихо опускаю. Прочь изящный кушак! Брошь на груди – красивая вещичка, но жаль, я не знаю, как она отмыкается, – магический сезам с ключом, заброшенным в море. Полина тихо смеется над моими попытками (трепещи, грешница, ты накануне падения!); ловкими движениями она застегивает те пуговицы, по которым уже прошлась моя рука. Ты думаешь, я горячо добиваюсь твоего тела? Отнюдь нет. Мне так приятно балансировать на этой грани; я знаю, что придется когда-нибудь переступить ее, но не сегодня, нет! – я слишком тебя люблю и понимаю, что чувственное утоление не приносит счастья. Ну и лицо у тебя! Ну и взгляд! Куда девался румянец? Мне страшно за тебя, и я говорю тебе: не смотри на меня таким любящим взглядом: ведь может статься, я не достоин твоей любви. Мне жаль тебя, жаль себя, потому что я проклят способностью подмечать и тут же расчленять свои и твои порывы; и второй человек во мне судит меня, первого, и нет во мне цельности, благотворной в любви. Пойми одно, милая: суждены мне благие порывы, но свершить ничего не дано. Ты пришла на ипподром, чтобы поставить на изнеможенную клячонку; ты проиграешь. Нет оснований верить мне, и я не хочу обязывать других людей верить мне – это было бы подло. Наша плоть – худая опора.
Но я люблю тебя, как умею, как могу. Хромает логика, как видишь, но это логика твоих губ, твоего совершенного тела, твоих глаз, твоего неисчислимого обаяния. Ты что-то говоришь, ты слабо протестуешь и льнешь все крепче, гибкая лоза к сухой подпорке, и твои стремительные горячие поцелуи, как прижигания, горят на моем лице.
Я не в силах разжать объятия, чтобы в наши согретые души не проник холод. Мне надо оттянуть развязку, но как бы я хотел ее приблизить! Как идеально я тебя люблю, и какой грязью все это может кончиться! Боже мой! Это будет конец любви, ее затухание – и пошлость, пошлость…
Мы встаем и обнимаемся так крепко, словно хотим слиться в одно тело. До свиданья, Клубника-со-сливками! Прости меня. Прости циркача, эквилибриста, экспериментатора. Поцелуй его, бедная страдалица, родственная человеческая душа, которая когда-нибудь отлетит от тела, достигая высей горних. Прости, люби, надейся…
Глава 6
О, если бы вечно продлился этот райский сон! От встречи к встрече я любил все сильнее, нетерпеливее. Я хотел идеального, гармоничного чувства, и мне казалось иногда, что я достиг его, осыпая лицо Полины нежнейшими, как фиалковые лепестки, поцелуями, на которые она отвечала порывисто, страстно, с таким напором неизрасходованных чувств, что я слегка пугался, – мне казалось, что это апофеоз высокой любви между мужчиной и женщиной, что мы новые Ромео и Джульетта. Но раздавался посторонний смех в коридоре или хотелось курить – и идеал рассыпался. Я чувствовал, что хочу невозможного, что наша любовь, как, может быть, и всякая любовь, – взаимно иллюзорна: я считаю, что Полина – само совершенство, я ищу в ней противовес для своей чересчур беспокойной души, а она думает, что я на что-то способен, что я дока по части опыта и пробью себе дорогу. Черта с два! Я знаю, что я ни на что не способен, тем паче не смогу в случае женитьбы устроить наши материальные дела; для этого я слишком лентяй, и мне, по правде говоря, плевать, похоронят ли меня в осиновом гробу или у кремлевской стены.
Чувствую, что стал филистером, рептилией, что максимализм юности преобразился в пакостную трусость конформиста, который у себя на голове позволит свить воронье гнездо; я сглаживаю все противоречия, я убегаю от них, уклоняюсь, увиливаю вьюном. Гадко, гадко. Эта любовь обнажила весь мой неуклюжий макиавеллизм, к которому я стал прибегать после черного семьдесят пятого года. Полина – открытая, добрая, честная, простая душа, она говорит и действует прямо, а я весь в различных душевных похотях, в зазеркальной кривизне. Однажды я признался в этом Полине; хорошо, что я это сделал. Ее невозможно обмануть, с ней нельзя играть в жмурки. Но для меня накопление опыта равно очерствению души. Злодейка жизнь! Сколько миллионов людей повторили на твоем конвейере один и тот же дурацкий цикл: мечты, тоска, пересмотр ценностей, либерализм, консерватизм и, наконец, – достойный аккорд вековечной сюиты! – старческая отупелость, маразм! Фанфаронством было бы изрекать, что я миную этот цикл. Куда я денусь? Оттого-то я и буду умна, что меня своевременно провялят. Умна была вяленая вобла – жаль, жестковата, годится только с пивом…
Хорошо бы жениться именно на Полине; но лучше бы и честнее – не жениться вовсе, чтобы никого не обременять, а volens-nolens доживать, не став ни Давидом, убивающим Голиафа, ни исцелителем общественного фурункулеза, ни ублаготворенным обывателем, а просто – сластолюбцем и путаником.
Похоже, что дело близится к развязке. Надо раскинуть мозгами, обмозговать, стоит ли судьба статной, как кипарис, красавицы с земляничным румянцем на детских щеках, – стоит ли ее судьба того, чтобы отдать ее ветрогону, чахоточному оболтусу с лицом цвета меккского целовального камня или, что еще лучше, цвета землицы из торфо-перегнойного горшочка? Я ведь не достоин столь щедрого подарка, это факт.
Но во-первых, argumentum ad hominem: мне этого очень хочется; как поется в популярной песенке Высоцкого, я сегодня очень, очень сексуально озабочен. Кажется, я сумел-таки одурманить Полину. Еще бы: мои слова так много обещают, поцелуи так трогательны, а весь облик настолько располагает, что противиться трудно.
В минувшую субботу мы не нашли прибежища. Гладильная комната снова приютила нас.
Страсть развивалась. Разум спал. Мы обнимались крепче канатных волокон; как советовал Катулл, мы лобзались тысячу раз, но, сбившись со счета, начинали сызнова. Были моменты, когда балансировочный шест в моих руках покачнулся и я готов был идти напролом, но слабое, очень слабое, беспомощное противодействие возвращало мне разум. Полина была истомлена и не владела собой. Ее нельзя было насытить; она не отвергала ни одного поцелуя; бадью за бадьей я выливал воду ласки на иссушенные грядки, но мне это было в охотку: я верил в урожай. И мало-помалу Полина потеряла контроль над своими поступками. В коридоре, на виду у всех, она обвивала мою шею руками и целовала меня, а когда я трусливо спросил, не скомпрометирую ли ее, рассмеялась; мне понравился ее ответ. И все же, в укромной глубине своей неблагоразумной души, я был смущен тем, что Полина так воспламенена. Я понимал, что с огнем шутить нельзя, но что мне делать? Я ведь из тех классических обормотов, для которых любовь – камень преткновения, которые с истинной самоотдачей предаются лишь бесплодной мозговой рефлексии, а когда приходится жертвовать самолюбием, тут-то и обнаруживается их позорное малодушие.
В четвертом часу утра мы покинули гладилку. Но дверь комнаты номер 68 оказалась заперта: там закрылись Грачев и Валентина. Я и Полина, мы испытали чувство соумышленников. «Как хорошо, что счастлив я и счастлив мой лучший друг!» – думал я. Мы хихикали, кряхтели и царапались в дверь, пока за ней не раздались шорохи и шепоты. Мы целовались перед дверью, и ожидание не было нам тягостно. Мы ребячились, как дети. Через четверть часа ключ в замочной скважине заскрежетал, мы коротко поцеловались, Полина шепнула, чтобы я приезжал в следующую субботу, ибо начнутся каникулы и общежитие опустеет. В благодарность за то, что она не едет на каникулы домой, предпочтя еще раз встретиться со мною, я крепко пожал ее маленькую руку. До свиданья, Клубника-со-сливками!
Глава 7
Здравствуй, Клубника! Если б ты знала, как медленно проползала эта неделя! А иногда, после работы, когда я бездельничал, приливала к сердцу такая нежность и такая тоска по тебе, что я бы плакал, если бы были слезы. Но наконец-то, наконец-то я тебя вижу! Когда я, откинувшись в кресле туристского автобуса, воображал встречу, рисовалась другая картина. И еще я боялся, что меня не пустит вахтерша. Так оно и вышло. Но Грачев подоспел вовремя: он взял меня под руку, строго посмотрел на привратницу, и та, побранившись, не посмела нас задержать. Милый добрый Грачев! Он сразу же уехал, оставив нас вдвоем. Спасибо ему, он очень тактичен и обходителен.
Какая ты сегодня красивая! И не в брюках, а в черной блестящей юбке из чертовой кожи. Это прекрасно! Теперь я вижу, что у тебя стройные ноги. Ты ведь тоже очень рада мне? Чуть только я намекнул, что голоден, ты бросаешься готовить омлет, открываешь хлебницу, разрезаешь кекс, греешь чай на электроплитке. Можно подумать, что мы сто лет как женаты, и вот я вернулся из длительной командировки, а ты хочешь угостить меня. Мне нравится, что ты так скоро привыкла ко мне и так услужлива. Омлет превосходен; правда, ты забыла его посолить. Ты смотришь, как я насыщаюсь. Боюсь, что, если я женюсь на тебе, после свадьбы ты уже не посмотришь с такой любовью, как я ем, а станешь торопить, чтобы поскорей убрать посуду. Видишь, в чем разница? Впрочем, из тебя выйдет добрая, терпеливая жена. Ну, спасибо, я поел. Давай, я помогу тебе. Ну вот. Теперь мы запрем дверь и выключим одну лампочку – зачем нам две? Можно, я закурю сигарету? Я очень волнуюсь. Ты сегодня – неприступная крепость, окруженная глубоким рвом; стража со скрипом поднимает подъемный мост. Ты даже пробуешь язвить; это не идет тебе. Я езжу не для устройства каких-то там дел, а только ради тебя. Ты усомнилась в этом, и я тебе ответил.
Я выключаю вторую лампочку. Мы стоим у окна, два высоких, гибких человека, которые могут переплетаться, как ивовые прутики. Занавеси на окнах раздвинуты, и с улицы на нас падает свет далекого фонаря. Как ты прекрасна! С покорностью бабочки-капустницы, которую берут за белые крылья, ты приникаешь всем телом ко мне, когда я беру твои губы. Свет далекого фонаря тусклой точкой мерцает в твоих зрачках. Неужели нам когда-нибудь станет скучно? Я не вынесу этого. Любимая, ты прекрасна! Как жаль, что мы умрем. Будем же наслаждаться, пока еще есть время. Не исключено, что вскоре его не будет. Я хотел бы слиться с тобой, чтобы между нами всегда были добрые ласковые отношения, теплые, как кровь в одном здоровом теле. Хочешь, я буду носить тебя по комнате? Ты брыкаешься, смеешься, тянешься ко мне с поцелуем и, поймав мои губы, сладостно приникаешь. Мне нелегко удержать тебя, в тебе ведь пятьдесят килограммов весу. Вот я тебя и уронил. Хорошо, что на кровать, а если бы на пол?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: