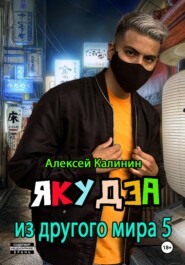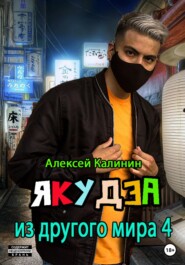По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золушка в кедах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если вдруг какому-нибудь абстрактному человеку захотелось увидеть неприязнь в крайнем её проявлении, то он со стопроцентной уверенностью мог обнаружить её в моих глазах.
Мне хотелось ругаться, материться, упасть на пол и вволю постучать пятками и кулаками по плиткам. Я пока что сдерживала себя, но руки ощутимо подрагивали.
Возможно, сегодня случилось слишком много всего необычного и непонятного, а может, просто переполнилась чаша терпения. Из-за всего этого упавшая в тарелку супа солонка осталась незамеченной, так как я думала о том, как заполучить вожделенные билеты.
Я отнесла солёное, как слеза жалости к самому себе, произведение в гостиную и вернулась за тарелками. Когда я вновь появилась в комнате, за столом уже сидела Лариса Михайловна.
Если можно где-нибудь увидеть гусеницу-мутанта, то её обязательно назвали бы именем моей мачехи. Да, именно с гусеницей она имела наибольшее сходство. Тело затянуто в яркие розовые лосины, а сверху потрескивал топик с веселенькими кошачьими мордочками.
Подобная одежда симпатично смотрелась бы на юных старшеклассницах и студентках, а на матроне выглядело, по меньшей мере вызывающе, а по большей – вульгарно. За натянутой тканью лосин виднелась «апельсиновая корка» целлюлита, а валики жира под топиком как раз и создавали ощущение сходства с гусеницей.
– Ты долго ходишь, девочка моя, – таким голосом можно в фильмах озвучивать скрежет гвоздя по стеклу.
Выпученные глаза взирали с «мачехинской» любовью из-под кудряшек химической завивки. Нос картошкой нависал над узкими губами, которые расплывались в улыбке только тогда, когда Лариса Михайловна видела чужие страдания и унижения.
– Я только что приготовила, – ответила я. – Если бы сестры мне помогли, то я сделала всё быстрее.
Ага, с губ срывается нормальная речь, значит, Игорь ушел недалеко.
Лариса Михайловна широко зевнула и потянулась. Бедный топик едва вынес такое издевательство над собой, хотя и начал потрескивать гораздо сильнее.
– Твои сестры сегодня сделали много хорошего, устали и им нужно отдохнуть. Я понимаю, что ты весь день тоже была занята, но шатания по городу вряд ли могут быть такими уж утомительными. Так что…
– Она была в отделении полиции, – вставил слово папа.
– Знаю. Что же, я не удивлена. Судя по её поведению, она просто не могла не оказаться там. Серёжа, также я знаю, что ты её очень любишь и закрываешь глаза на многое, но всё же…
– Чо ты гонишь, корова галимая? Батя не лох, так что нечего перед ним лезгинку исполнять, – вырвалась у меня просьба к мачехе не обманывать отца.
Возглас вырвался неожиданно, и папа уронил половник обратно в кастрюлю. Единственным плюсом резкого падения послужил выплеск жирной жидкости на присутствующих. Мачеха и сестры ещё не успели переодеться и теперь с ужасом смотрели, как по дорогой одежде расплываются пятна, которые грозили полностью испортить вещи.
– Солью сыпаните слегонца, да не ссыте, отстирается, – растерянно вымолвила я.
– Ты… Ты… Да ты… – опытная скандалистка набирала в грудь воздуха и сейчас на должен должен вылиться водопад гнева, едва ли не меньший, чем Ниагарский.
– Тыкни собачку в срачку, чухня нефильтрованная. Давно хотелось с вами побазарить, да всё никак кураж словить не могла. Теперь держи ответку за делюги беспонтовые, да за этих хомячков на всю голову о…бошенных. Сидеть, курвы жирные, а то живо каждой пачку вскрою, – прикрикнула я на сестер.
Обе сели и сделали глаза по юбилейному рублю. Если и были какие слова возражений, то они застыли возле основания языка и неприятно щекотали горло. Отец смотрел на свою тихую дочку так, словно наблюдал за вылезающим из раковины Лох-несским чудовищем.
Быстрее всех оправилась мачеха. Об её улыбку можно порезаться, а в глазах застыл весь лед Арктики. Она и не с такими справлялась в девяностые, когда рэкетиры приходили с попытками обрести власть над «беззащитным» НИИ. О том, где сейчас те бандиты, можно было только догадываться…
И Лариса Михайловна на все сто процентов была уверена, что ещё не потеряла хватку.
– Деточка, вот ты и показала свою настоящую сущность. Неужели мы с отцом заслужили эти речи? А бедные сестры, которые хотели тебе помочь и вывести в свет? Неужели они тоже достойны твоих оскорблений?
Где-то далеко в уголке моего кипящего разума пролетел отблеск мысли, что всё это неспроста.
Но что такое мимолетный всполох перед огромным и бурлящим пламенем гнева?
Вы никогда такой не ощущали?
Когда на всё наплевать с высокой колокольни и дурные слова сами выскакивают, как вода из трещин старой плотины. Когда перед глазами пляшет марево и неважно, что будет дальше. Важно выплеснуть накопившееся…
Здесь и сейчас…
Ведь хуже-то уже не будет.
Вот такое марево опустилось и на мои глаза. Все накопленные обиды, все слезы в подушку, все стискивания зубов вырвались бушующим тайфуном.
Я с пеной изо рта кричала о том, что «старая кобыла запарила своими загонами», критиковала «тупорылых овец» за «ушлепанский видон», вменяла отцу, что тот «как лошара голимый ведется на беспонтовую туфту».
Моей пламенной речи хватило на десять минут. Мачеха только улыбалась. Сестры понемногу приходили в себя. Отец судорожно капал валерьянку в стакан с водой, на его виске беспокойно пульсировала синяя вена.
Мне же хотелось схватить себя за колени и остановить их дрожь, но руки тоже трепетали, как листья клена на ветру. Я выплеснула из себя все эмоции и чувствовала себя наволочкой, которую выстирали и вывесили сушиться на улицу. Такой опустошенности я не чувствовала с тех пор, как на школьном выпускном вечере слегка перебрала с шампанским.
– Вот, Серёжа, а ты мне не верил. Говорил, что я обманываю. Теперь видишь сам, насколько испорчена твоя дочь, – нежным голосом святой великомученицы проговорила Лариса Михайловна.
– Но, Лора…
– Что Лора? Я уже сорок два года Лора и что? Я говорю тебе одно, а ты слышишь другое и вообще не хочешь меня понимать? Если ты свою дочь не отведешь к психотерапевту, то это придется сделать мне. И не факт, что мы вернемся вместе! Её агрессия превзошла все допустимые нормы… А если я завтра проснусь с ножом в боку?
– Перестань, Лора, – папа приложил ладонь к пульсирующей вене.
– А ты, Олеся, ты так и не сдала экзамен! – сморщилась мачеха, когда повернула красное лицо ко мне.
– Я у мусоров была. Меня по беспределу приняли…
– Она была в изоляторе, потому что её посчитали сообщницей преступления. Мне звонил Ковырялин, недаром же учились вместе. А потом совершила побег с заядлой преступницей и её подельником. Что ты на это скажешь? Следователь всё видел из окна!
– Да я… Да чо ты гонишь?
Увы, в этом раунде победила мачеха. Я уже понимала, что дальнейшие ругательства приведут только к худшим последствиям, но не могла остановиться.
– Вы запарили своей простотой. То это вам не по кайфу, то там не так замастрячено. Я как ссаный веник летаю с утра и до вечера, а вы…
– А что мы? – ласково спросила мачеха. – Неужели мы ничегошеньки не делаем?
Если бы она спросила просто так, поинтересовалась бы и всё, то я, возможно, и смогла бы сдержаться. Но вот открытая фальшь в голосе настолько взвинтила, что я уже не чувствовала себя пустой наволочкой. Скорее, меня можно было назвать перекачанной воздушной подушкой, которая вот-вот должна взорваться.
– Вы ни хрена не делаете! Всю житуху мне зарубили на корню, а теперь скалитесь. Чо, влом отстегнуть проходнушку на вечеруху? Зажали? Да вы всю дорогу жмете. Нам с батей из ништяков только обломы остаются, а вы такие ряхи наели, что в двери только боком щемиться можете. Да без вас мы бы в полном шоколаде жили.
– Хватит! – папа хлопнул ладонью по столу.
Он одним глотком выпил смесь воды с валерьянкой и поставил стакан на стол. Дрожащая рука подвела, и стеклянная емкость упала на скатерть, расплескав капли. Папа медленно выдохнул и поставил стакан как надо.
– Хватит так разговаривать, Олеся. Сейчас же извинись перед матерью и сестрами!
Я оглядела притихших сестер и улыбающуюся мачеху. Почему так бывает, что виноваты другие, а извиняться приходится тебе? Это же неправильно!