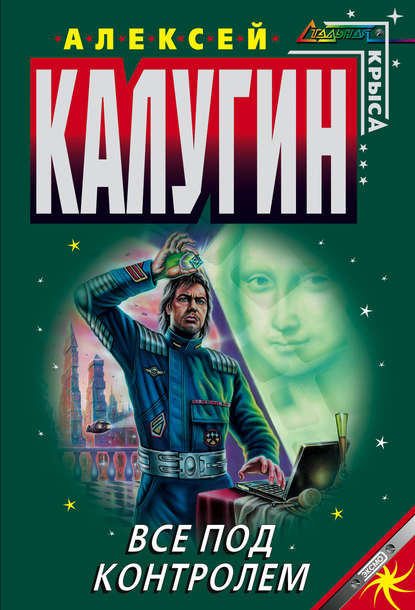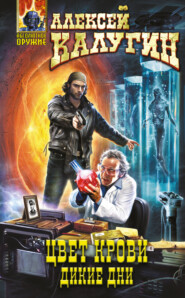По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Все под контролем (Сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы имеете в виду?..
Инспектор умолк, не закончив начатую фразу. Суть, заключенная в вопросе, так и оставшемся незаданным, представлялась ему настолько святотатственной, что, будучи облеченной в словесную форму, она, быть может, способна была обрушить стены и потолок с изображением парящих между облаками драконов.
На лице Векслера не дрогнул ни единый мускул.
– Именно это я и имел в виду, – взгляд его, однажды поймав, уже не отпускал от себя взгляда инспектора Егоршина. – Собери все до единого осколки разбитого блюда, аккуратно склей их молекулярным клеем и сунь в камеру дубликатора, предварительно введя в программу дополнительное задание на устранение всех дефектов и следов клея. В результате ты получишь блюдо точно таким, каким оно было до того, как на него сел твой стажер, – дабы особо подчеркнуть этот момент, Векслер сделал секундную паузу. – Оригинал после этого уничтожь.
Егоршин судорожно сглотнул. От внезапно открывшейся перспективы в горле у него пересохло. Вспомнив о чашке, в которой еще оставалось немного остывшего кофе, инспектор схватил ее и одним глотком осушил до дна.
– Но ведь это подлог, – сдавленным полушепотом произнес он.
– Разве? – изображая недоумение, Векслер картинно поднял левую бровь, изогнув ее при этом дугой. – У тебя на руках останется блюдо, до последнего атома идентичное тому, которого когда-то коснулся своей кистью Пикассо. К тому же существующее в единственном числе.
– Но ведь это будет ненастоящее блюдо, – еще тише произнес Егоршин.
– А кто об этом будет знать? – Векслер быстро глянул по сторонам, как будто хотел убедиться в том, что их никто не подслушивает. – Твой стажер будет молчать об этом случае, поскольку именно он в нем повинен. А ему ведь еще нужно закончить стажировку. Тебе, как я полагаю, тоже нет никакого резона рассказывать о случившемся каждому встречному. Ну, а я, – Векслер улыбнулся и, приподняв лежавшие на столе ладони, – узкие, с длинными, словно у скрипача, пальцами, – чуть развел их в стороны. – Можешь мне довериться, Игорек. Я и сам в свое время проделывал подобные фокусы.
Егоршин быстро облизнул пересохшие губы и заглянул в чашку. Убедившись в том, что в ней не осталось ничего, кроме кофейной гущи, он поднял голову, и затравленный взгляд его вновь встретился со спокойным и уверенным взглядом Векслера.
– А как же Пикассо?
– А при чем здесь Пикассо? – недоумевающе наклонил голову к плечу Векслер.
– Но, как же… Блюдо… – сосредоточившись, Егоршин смог все-таки сформулировать мысль, не дававшую ему покоя. – Оно ведь было одухотворено гением Пикассо.
Векслер усмехнулся и покачал головой, дивясь наивности нынешнего поколения инспекторов. Казалось бы, уже успели порыскать по виткам временной спирали, посмотрели, что там да как. А все туда же – человеческий фактор, непревзойденный гений мастера, неповторимый мазок волшебной кисти… Ну прямо как выпускницы Института благородных девиц.
– Пикассо, говоришь…
Повернувшись к стойке, Векслер вновь махнул рукой своему проницательному помощнику. В свое время тот был принят на работу именно благодаря удивительной способности понимать хозяина не то что с полуслова, а и вовсе без слов.
Не прошло и минуты, как на столике появилась новая чашка кофе для инспектора, чашка чая с бергамотом для хозяина бара и тарелка с сандвичами: сыр и ветчина, прослоенные кетчупом с майонезом, – именно то, что любил Векслер.
Подавая пример инспектору, Векслер первым взял сандвич с тарелки.
– Я, конечно, не отрицаю того, что Пикассо был гением, – Векслер сделал глоток чая из чашки. – Но в чем именно заключалась его гениальность? В умении удивить подлинных ценителей? А может быть, просто в умении потрафить самолюбию неискушенного зрителя, который, глядя на его картину, радуется тому, какой он сам умный? Или же художник просто умел предугадать, что именно хочет увидеть публика в данный момент?
Всем известно, что в творчестве Пикассо сначала был голубой период, потом розовый, затем он создал кубизм, после чего обратился к неоклассицизму, чтобы в конце концов прийти к сюрреализму. Но никто не может ответить на вопрос, в чем заключалась причина этих удивительных метаморфоз. Что заставляло мастера неожиданно для всех резко менять как технику, так и стилистику своей работы? Никто не знает ответа на этот вопрос, – Векслер сделал театральную паузу, после чего многозначительно произнес: – Никто, кроме меня.
Глянув на инспектора и убедившись в том, что он слушает его, забыв о кофе и сандвичах, Векслер начал свою историю:
– О голубом и розовом периоде творчества Пикассо ничего сказать не могу. Но вот о том, что послужило толчком, обратившим его к кубизму, мне известно доподлинно…
Глава 3
Точно не могу сейчас сказать, в каком году было дело. Но помню, что именно в тот год были отменены квоты на путешествия во времени для частных лиц. Работы у нас после этого прибавилось, поскольку к профессиональным контрабандистам, осведомленным не хуже нас с тобой о том, что можно, а чего нельзя брать из нашего времени в прошлое, и что в прошлом ни в коем случае нельзя трогать, присоединились еще и толпы дилетантов, волокущих из туристических поездок в прошлое все что ни попадя. Поверишь ли, у одного из таких туристов, прибывшего из пятнадцатого века, я лично изъял подлинник Босха, которого нет ни в одном каталоге! А у кого он его прикупил, этот любитель живописи и сам не мог толком объяснить.
Впрочем, если хочешь точно выяснить, когда случилась эта история, можешь проверить по таблице сопряженных годов.
Я получил задание, о котором инспектор Отдела искусств может только мечтать. Мне предстояло вернуть на место картину, изъятую у контрабандиста по имени Павел Марин.
Ну, естественно, кто же в Департаменте не знает Марина! Он столько лет в качестве заключенного провел в зоне безвременья, что успел поработать с тремя поколениями инспекторов из Отдела искусств. Марин – это уникальнейшая личность. Он превосходно знает историю искусств, держит в памяти весь Каталог всемирного наследия и никогда не позволяет себе взять из прошлого что-то, что могло бы создать проблемы в будущем. Не то что нынешние нигилисты, именующие себя клинерами! До сих пор не могу понять, почему Марин подался в контрабандисты, а не поступил на работу в Департамент. Порою мне кажется, что он занимается контрабандой вовсе не из корысти, а исключительно из любви к искусству, – как ни парадоксально это звучит.
Картина, о которой идет речь, по сути не представляла собой ничего ценного. До той поры, пока Марин не умыкнул ее, она хранилась в личной коллекции графа Витольди. Картина имела размеры тридцать два на двадцать три сантиметра, незамысловато именовалась «Утро» и принадлежала, как утверждал каталог, составленный самим графом, неизвестному голландскому художнику первой половины семнадцатого века. Что было изображено на картине, понятно из названия. Бог знает, по какой причине граф завещал свою коллекцию Шотландской национальной галерее в Эдинбурге. Получив после смерти графа находившиеся в его коллекции картины, шотландские эксперты пришли к выводу, что «Утро» является дешевой подделкой, выполненной не раньше конца девятнадцатого века, – кстати, с этим мнением, осмотрев картину, согласились и наши специалисты, – после чего картина была отправлена в запасник. Публике картина была представлена всего однажды – вследствие какого-то совершенно невероятного стечения обстоятельств она попала на престижную международную художественную выставку в Лувре, проводившуюся в 1977 году. Естественно, «Утро» попало в каталог выставки, что автоматически ставило ее в один ряд с высочайшими достижениями человеческого гения в области изобразительного искусства. Марин, должно быть, Луврского каталога не видел, а потому, доверившись собственному художественному вкусу, счел возможным переместить «Утро» из начала XX в середину XXII века. Здесь его ожидала засада, и Марин скрылся, бросив весь свой товар.
Картинка – дрянь, но следовало вернуть ее на место. Что мне и надлежало сделать, отправившись в 1906 год. Приятная сторона дела, помимо того, что само по себе оно было совершенно необременительным, заключалась в том, что стояла середина июля, а вышеназванный граф Витольди, из домашней коллекции которого была похищена картина, проживал не где-нибудь, а в Каннах.
Заманчивую перспективу провести несколько дней на роскошном курорте на побережье Средиземного моря несколько подмачивал тот факт, что в компании со мной должен был отправиться лаборант-исследователь из Отдела экологии.
Задачи служащих Отдела экологии не в пример проще тех, которые приходится решать нам. Все, что от них требуется, это собрать образцы воздуха, воды, грунта, растений, еды и вообще всего, что попадется под руку, чтобы потом, вернувшись назад, можно было в очередной раз удостовериться в том, что к настоящему времени наш мир сделался совершенно непригодным для жизни.
Казалось бы, бог с ними, – каждый выполняет свою работу. Но все дело в том, что экологи имеют весьма смутное представление об исторических особенностях и реалиях того времени, куда они направляются. Проходить соответствующую подготовку они отказываются, мотивируя это тем, что не хотят забивать голову информацией, которая им, скорее всего, больше никогда не понадобится. В итоге получается, что к каждому лаборанту-исследователю, отправляющемуся в прошлое с набором пластиковой тары для образцов, требуется приставить провожатого, знакомого с тем временем, в котором им предстоит работать. Чаще всего это был кто-то из Отдела искусств или Отдела науки и техники. Для нас это стало чем-то вроде повинности, которую, хочешь не хочешь, приходится отбывать.
В то время, когда происходила история, о которой я рассказываю, Департамент решил провести эксперимент, суть которого заключалась в том, что к каждому инспектору из Отдела искусств или Отдела науки и техники, отправляющемуся на задание в прошлое, прикреплялся лаборант-исследователь из Отдела экологии. Не посоветовавшись с нами, непосредственными исполнителями, умные головы из руководства Департамента решили, что таким образом они резко сократят число межвременных переходов и тем самым снизят себестоимость проводимых экологами исследований.
В паре со мной оказался совсем еще молодой паренек, лет двадцати двух, рыжий, весь в веснушках и со смешным носом, похожим на птичий клюв. Звали его… Впрочем, имя его не имеет значения. Тем более что сейчас этот бывший лаборант-исследователь из Отдела экологии занимает не самую последнюю должность в Объединенном правительстве. Поэтому назовем его просто Славиком.
Я Славику доходчиво объяснил, что к чему и что почем. В том смысле, что сначала я делаю свою работу, а уж потом, если остается время, помогаю ему с его заданием. Парень оказался понятливым. Дважды объяснять ему ничего не пришлось – он сразу же со всем согласился.
– Нет проблем, Федор Николаевич, – заявил он. – Три дня на берегу Средиземного моря, в разгар курортного сезона, да еще и в начале двадцатого века, – это счастливый билет, который вытягивает не каждый. Надеюсь, пока вы занимаетесь своим делом, мне будет дозволено ходить на пляж одному?
После этого я понял, что со Славиком у меня проблем не будет. Сказать по чести, я и сам рассчитывал управиться с делом в первый же день, а оставшееся время посвятить изучению местных достопримечательностей, среди которых был отмечен и пляж.
Глава 4
В назначенный срок мы прибыли на место. В отеле «Палас» для нас уже были зарезервированы два смежных номера с окнами на море. В соответствии с разработанной легендой, мы со Славиком должны были изображать двух английских плейбоев, наследников не слишком титулованных, но зато достаточно богатых семей, приехавших в Канны отдохнуть и промотать часть семейного состояния.
Погода на побережье стояла великолепнейшая. Мягкий средиземноморский климат обеспечивал теплые дни без изнуряющей жары. А за то, что в те три дня, которые нам предстояло пробыть гостями Канн, дождь не ожидается, поручился Славик, перед отправкой внимательно изучивший метеосводки за соответствующий исторический период.
Выйдя на балкон и взглянув на лазурное море, похожее на туго натянутый шелковый платок, очерченное острым серпом золотистого полумесяца песчаного пляжа, я впервые по-настоящему, не разумом, а всей душой ощутил, что за два с половиной столетия в мире и в самом деле что-то серьезно изменилось. В середине двадцать второго века, выйдя на тот же самый балкон несколько раз перестроенного, оборудованного по последнему слову техники отеля «Палас», увидишь тот же самый берег и то же самое море. Но при этом тебе ни за что не удастся ощутить той тишины и того покоя, которые разливались над морем в том достопамятном 1906 году.
Быть может, историк возразит мне и станет утверждать, что тишина, окутавшая в то далекое утро каннский берег, на самом деле была напряженной и зловещей, и, прислушавшись как следует, в ней уже можно было различить эхо грядущей войны, но лично мне казалось, что тогда никто даже в страшном сне не мог услышать тот роковой выстрел в Сараеве, который всего через несколько лет перевернет этот тихий и спокойный мир, ввергнув его в пучину бойни, равной которой человечество еще не знало.
От размышлений о судьбах мира меня оторвал мой напарник. Выскочив на балкон, Славик окинул взглядом расстилающиеся до самого горизонта морские просторы, вдохнул полной грудью экологически чистый воздух и, блаженно улыбнувшись, посмотрел на меня.
– Каков план действий, Федор Николаевич?
Я только с досадой цокнул языком и покачал головой. Конечно, в начале двадцатого века в Каннах запросто могла звучать и русская речь, но, если уж мы взялись изображать парочку английских лоботрясов, то и разговаривать следовало на английском.
– Я собираюсь заняться делом, – ответил я на абсолютно правильном английском с легким налетом мягкого стратфордширского акцента. – Как сообщил агент, у графа Витольди на сегодня заказан билет в оперу. Случай подходящий, и я хочу сегодня же вечером вернуть картину ее законному владельцу.
– А я, если позволите, отправлюсь на пляж, – с надеждой посмотрел на меня Славик, не забыв, однако, перейти на английский.
На всякий случай, чтобы парень не расслаблялся, я все же спросил у него:
– А как же твои образцы?
– Воздух, – указал Славик на небо, – вода, – протянул он руку в сторону морского берега, – все рядом. Мне и десяти минут не потребуется на то, чтобы заполнить емкости. А образцы пищи возьму за ужином.