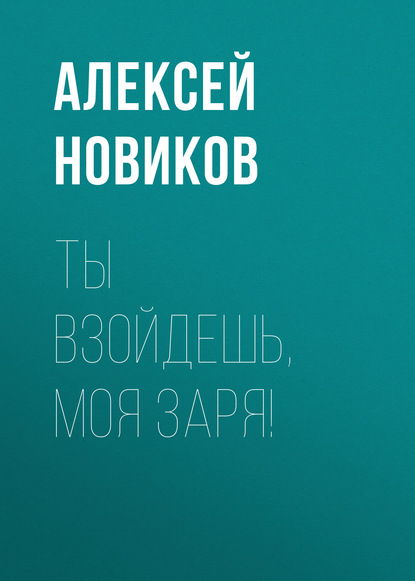По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ты взойдешь, моя заря!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А со мной иначе было. Очень хорошо помню, как сначала научился бойко читать и только много позднее засел за ноты. Вековечная наша ересь заключается в том, что отделяем народную музыку от музыки ученой. Как будто может быть в России своя музыка, не от русской песни рожденная.
– Неужто ничто, созданное веками на Западе, вам не годно? – недоверчиво спросил Одоевский.
– Очень даже годно: и для познания пройденных путей, и для нового движения вперед; но коли мы откроем в музыке свои дороги, годные для всех наций, почему бы тогда и у нас не поучиться?
Глинка развернул новые вороха нот. Одоевский, следуя за мыслью Глинки, все больше заинтересовывался.
– Расскажи бы мне Николай Александрович Мельгунов, что я увижу у вас такие пробы, я бы к вам из Москвы пешком пришел.
– Ну, зачем пешком! – отшутился Глинка. – Скоро будем перелетать с места на место по рельсовым путям на транспортных машинах. Не слыхали, был такой проект? Это я вам по должности чиновника путей сообщения докладываю… Вот вы говорили о науках, о единении с ними художества. Да будет так! Но не странно ли, что наша народная музыка не привлекает внимания ни артистов, ни ученых мужей? Тружусь я многие годы, – он обвел глазами раскрытые перед гостем нотные листы, – а чего достиг?
– Не мне о том судить, – с каким-то новым оттенком глубокого уважения отвечал Одоевский, – но если любопытно вам мое мнение, без обиняков скажу: вижу, что не только следуете учености, но по-своему распоряжаетесь в царстве звуков.
Глинка, пожалуй, даже не слыхал последних слов. Его мучила невысказанная мысль.
– Но какой прок в сладостных звуках, – задумчиво проговорил он, – если не отзовется в них наша жизнь. А если и отзовется, то как? Переживаем мы лихое время. Пристало ли музам молчать?
Он снова подошел к роялю.
– Извольте, исполню вам пьесу, выношенную в глубине сердца.
– Что это? – спросил потрясенный гость, когда пьеса кончилась.
– Задумано для хора, – коротко ответил Глинка.
– Как трагично и как гневно! – вырвалось у Одоевского.
– Так ли, Владимир Федорович? Насчет трагического стиля не стану спорить, как будто задался. Но точно ли ощутили вы, что гневается музыка и не обещает прощения палачам?
– Кажется, я начинаю понимать вас, – тихо проговорил Одоевский.
Глинка встал и закрыл крышку рояля…
Так случилось, что, встретившись под вечер, они расстались глубокой ночью.
Вернувшись домой, Одоевский взял не отосланное в Москву письмо к Сергею Соболевскому и, взволнованный новым знакомством, приписал: «Познакомился с твоим однокорытником Глинкою. Чудо малый! Музыкант, каких мало!»
В этот момент перед ним, как живой, встал Сергей Соболевский, и тогда не утерпел страстный музыкант и добавил: «Не в тебя, урод!»
А на Загородном проспекте все еще бодрствовал Михаил Глинка. Он держал в руках ноты той пьесы, которую играл гостю. На нотах было выставлено название: «Хор на смерть героя».
Трагический хор был совершенно закончен, только под нотами не было слов да не была проставлена дата сочинения. Глинка взял перо. Когда написал он этот хор? Вспомнилось лето, лесные пожары и тревожный запах гари… Тогда отозвалась музыка на смерть героев.
Глава четвертая
К утреннему чаю Глинка вышел против обыкновения бодрый. Иван Николаевич сразу дал этой перемене свое истолкование.
– Впрямь, славный декокт ты пьешь, – сказал батюшка сыну, – хотя и сказывается целительное действие не тотчас, но во благовремении… Кстати, друг мой, можешь и меня поздравить… Нашел я немалый капитал. Статский советник Погодин дает в оборот пятьсот тысяч ассигнациями, чтобы быть со мною в половине.
– Откуда у статского советника такие суммы?
– По верной справке, – объяснил Иван Николаевич, – был он в свое время к Аракчееву приближен и по интендантской части усерден. Опалы графской, однако, не разделил, капитал уберег и ныне ищет ему надежного применения. На Руси, друг мой, если приглядеться, люди разве от одного интендантства кормятся? Достойно удивления, как достает на всех казенных сумм!
– Зато, батюшка, в дон-кишотах они не ходят.
– Какие дон-кишоты? – удивился Иван Николаевич. – А, ты вот о ком! Да, те с лихвою поплатились, а эти…
– В российские герои норовят? Так, батюшка, выходит?
Но чай был отпит. Иван Николаевич покинул столовую на полуслове. Вопрос остался без ответа, хотя задан был не зря.
В российские герои метили персоны самые удивительные. 25 декабря 1826 года, в памятный день освобождения России от полчищ Наполеона, в Зимнем дворце состоялось торжественное освящение военной галереи 1812 года.
В журналах эта галерея была описана так:
«Вошедшему через главную дверь первым предметом представляется портрет во весь рост блаженной памяти государя императора Александра I. Впрочем, портрет сей будет заменен другим, изображающим незабвенного Агамемнона нашего верхом на лошади. По обеим сторонам императора Александра I оставлены места для портретов во весь рост высоких союзников – императора Австрийского Франца I, короля Прусского – Фридерика-Вильгельма III, герцога Веллингтона…»
Конечно, в галерее 1812 года нельзя было не поместить портрет Михаила Кутузова. Зато в императорском дворце не нашлось и вершка места для тех русских солдат и партизан, которые под водительством Кутузова сполна рассчитались с Бонапартом.
В это же время Глинка прочел в «Отечественных записках» статью «О преданности смолян отечеству в 1812 году». Как живой, встал перед ним смоленский крестьянин-партизан Семен Силаев. Ведь именно Семену Силаеву когда-то собирался воздвигнуть необыкновенный монумент старый ельнинский книжник Иван Маркелович Киприянов.
Но не дождался русский мужик никакого монумента. Посулили ему награду на небесах, а до тех пор вернули на барщину и согнули в три дуги. Странные, правду сказать, ставят монументы на Руси. В военной галерее 1812 года поместился вместо Семена Силаева плешивый Агамемнон. А тем, кто хотел вступиться за права Силаевых, тем тоже воздвигли монумент, но не в императорском Зимнем дворце, а как раз напротив – на валу кронверка Санктпетербургской крепости.
В годовщину восстания император приказал отслужить на окровавленной земле подле сенатских стен благодарственный молебен за дарованную победу. Казалось, все было кончено. Самые имена казненных и сосланных стали запретными. Но к победителю являлся на очередной доклад шеф жандармов граф Бенкендорф, и из тайных донесений вновь восставали имена казненных. О них говорили взаперти, о них шептались втихомолку.
Император слушал шефа жандармов, уставив на него оловянные глаза.
– Опять?! – Николай Павлович нервно поводил пальцами, словно затягивал невидимую петлю.
Граф Бенкендорф, ожидая высочайших повелений, понимающе кивал лысой головой.
Невесело встретила столица 1827 год. Впрочем, столичная газета «Северная пчела» выбивалась из сил, живописуя увеселения публики – маскарады, балы и театры. Усердный издатель «Пчелы» Фаддей Булгарин иступил не одну связку перьев, изображая всеобщий восторг и любовь к монарху. Но чем громче и назойливее жужжала «Пчела», тем отчетливее проступал между строк страх, порожденный недавними событиями. Петербург был опустошен арестами. Многие покидали столицу по доброй воле.
– Здравствуй, Мимоза, и прощай! – перед Глинкой стоял Левушка Пушкин. – Еду юнкером на Кавказ.
– И ты, Лев? – Глинка радушно встретил гостя и еще раз повторил: – И ты, Лев?
– Довольно мне служить по департаменту духовных дел. Сыт по горло, – отвечал Лев Сергеевич. – Спасибо отпустили.
– Почему бы и не отпустить тебя?
Пушкин пристально посмотрел на однокашника.
– А ведомо ли тебе, что высшие власти подняли целую переписку о моей скромной персоне?
– По родству с Александром Сергеевичем?
– Надо полагать. Однако оказали честь и лично мне. По счастью, утеряли в моем жизнеописании некую не подлежащую оглашению страницу.