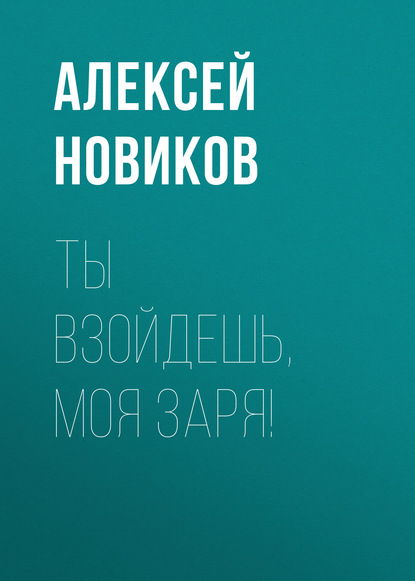По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ты взойдешь, моя заря!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно, так, – подтвердила Наташа. – А помните, братец, вы раньше говорили, будто в песнях – правила? А вот и нету их, правил, теперь сами признали.
– Насчет правил вопрос особый, – не согласился Глинка. – А кто этак голоса сладил? Народ!
Наташа схватила Глинку за руку, как будто снова о чем-то догадалась.
– Братец, вы опять о бунтовщиках?
– Эх, дались вам бунтовщики! – с досадой отвечал Глинка. – Да ты-то откуда о них знаешь?
– Яков Михайлович еще до вашего приезда толковал, – призналась Наташа. – И насчет народа тоже… – Девушка посмотрела на брата и, хоть шли они по безлюдной дороге, заговорщицки прошептала: – Неужели и в песнях наших тоже бунт, братец?
– Признаюсь, – Глинка даже остановился посреди дороги, – только тебе одной могло этакое в голову прийти. Сделай одолжение, заруби себе на носу: в песнях наших вовсе не бунт, а высшее проявление свободы каждого голоса в общем их согласии, сиречь высшая гармония…
Но тут Наташа ахнула:
– Братец, мы никак опоздали!
Они подходили к неказистой избе, стоявшей на отлете от села. Кто-то открыл дверь на улицу, и вместе со слабым отсветом лучины до путников долетели стройные молодые голоса. Закрепощенные люди создавали в своем пении ту самую вольную гармонию, которая всегда была душой артельной русской песни.
Как будто и не имели эти песни никакого отношения к петербургским происшествиям, но разговор, начатый с Наташей, Глинка все чаще и чаще продолжал наедине с собой.
Те сочинители, которые участвовали в восстании, давно говорили о прелести народных песен. Уже призывали они отечественную словесность обратиться к этому чистому роднику мудрости и вдохновения, но еще никто из них не проник в самую сущность хорной песни. А ведь именно песенные голоса не меньше, чем слово, являют вольный распорядок, желанный народу.
Еще резче обозначились перед Михаилом Глинкой латаные крыши мужицких изб, еще памятнее стали извечные мужицкие разговоры о мякине. То и дело шушукались на селе о поимке в округе беглых, о продаже людей на свод… Словно отдернул кто-то завесу и зловещее рабство предстало во всей наготе. А Иван Николаевич возьми да и скажи сыну:
– Уже болтают у соседей, друг мой, что ты приехал бунтовать мужиков, а может, и сам скрылся от правительства. Охотников на ябеду у нас не занимать стать, а время, сам знаешь, какое. Остерегись, друг мой!
И, как будто для подтверждения батюшкиных слов, Евгения Андреевна и Поля, вернувшись в Новоспасское, привезли тревожное известие: в Смоленске взят и под строжайшим караулом отправлен в Петербург дальний родственник Ванюша Кашталинский. Новость поразила Глинку: неужто и в Смоленске существовал заговор, а из тихого Ванюши вырос грозный заговорщик?
– Пустое! – решил Иван Николаевич. – Ванюша каждого квартального боялся – ему ли ниспровергать правительство? Я не иначе располагаю: доносители сбирают жатву. Им ли теперь зевать?
Выждав, когда Евгения Андреевна ушла к себе, Иван Николаевич продолжал:
– Не прав ли я был, Мишель, взывая к осторожности? Ты говоришь, на селе мужиковы песни слушаешь, а какой-нибудь дальновидный ум ябеду настрочит: знаем, мол, какие он там с мужиками песни заводит!
– Но вы же сами изволили говорить, батюшка, что музыкальным занятиям моим никто препятствовать не будет?
– А коли хочешь, опять повторю. – Иван Николаевич посмотрел на сына с недоумением. – Однако мужицкие-то песни тебе на что? В них какая музыка?
Надобны были чрезвычайные обстоятельства, чтобы завел Иван Николаевич разговор о музыке. Впрочем, опять кончился он без результата. У новоспасского хозяина начинались прорухи в собственных делах. Ожегшись на кожевенном заводе, искал он вкладчиков для ткацкой мануфактуры. Но, по тревожному времени, вкладчики не находились. К тому же требовала немалых денег предстоящая свадьба, а из-за всеобщей сумятицы Иван Николаевич находил их с большим трудом.
Приданое Пелагеи Ивановны уже было отправлено на будущее ее жительство, в село Руссково. Уже назначен был и день свадьбы. Поля доживала в своей светелке последние девичьи дни и была похожа на птицу-пересёлку. Глинка часто засиживался у сестры. Невеста то вся светилась от счастья, то бледнела от тревоги: жених ускакал в Москву и не возвращался.
– Ни в чем не замешан Яков Михайлович, – успокаивал Полю брат, – ништо ему Москва. Считает часы и минуты до встречи с тобой, а на дела времени не хватает. И скучать причины тебе вовсе нет: вы хоть вместе, хоть врозь – все равно неразлучны.
А Поля обняла брата, и вдруг из сияющих ее глаз хлынули слезы.
– Я так счастлива, Мишель, – говорила она, а слезы градом катились по побледневшим щекам, – и я боюсь этого счастья… Я, наверное, умру, Мишель…
– Полно, что ты говоришь! – Глинка совсем растерялся, не зная, как утешить сестру.
– А может быть, так всегда бывает перед свадьбой? – по-детски всхлипывала Поля.
– Ну конечно, перед венцом все девицы непременно плачут.
Но уже пронеслась набежавшая тучка, и Полины глаза снова сияли.
– Как бы я хотела, Мишель, чтобы ты жил с нами в Русскове! Не уезжай, милый, в этот ужасный Петербург!
– Мне вовсе и не хочется туда ехать, даю в том слово.
– Да? – обрадовалась Поля. – Но твоя музыка!.. – снова огорчилась она.
– А помнишь, Поленька, какие неприятности музыка чинила тебе в детстве?
– Еще бы! Я и сейчас с трудом разбираю ноты.
– Тебе в том большого убытка нет, а вот мне ныне достается… – Глинка тяжело вздохнул.
– Недаром ты теперь совсем не играешь, – посочувствовала Поля.
– Что делать? Решительно ничего не могу произвести, – отвечал Глинка и снова отдался воспоминаниям детства: – Помнишь, как у тебя ноты с линейки на линейку прыгали?
– Еще и хуже бывало, – воодушевилась Поля. – Как соберутся все в кучу, ни одной не разберу!
– Ну, у меня они так вести себя не смеют, – Глинка рассмеялся. – Я беспорядка не потерплю. И что ж ты думаешь? Теперь они мне по-иному мстят. Я их по соображению на линейки рассажу и рад: вот, мол, какое чудо сочинил… – Он оборвал речь и закончил с грустью: – А пригляжусь – одни чучела сидят.
– Какой ты странный, Мишель! – Поля коснулась его руки. – Ты никогда так не говорил о музыке.
– А надобно так говорить, если чучел ей не занимать стать. – Казалось, он в эту минуту забыл о сестре, отдавшись мысли, которая не давала ему покоя. Потом он обернулся к Поле и озадачил ее совсем непонятной речью: – Однако не намерен я изобретать чучела для чучел! На то и без меня охотников довольно… Но где они, российские герои?
Глава третья
В тот самый час, когда Михаил Глинка вопрошал сестру о российских героях, к новоспасской усадьбе подъехал семейный возок господ Ушаковых. Это были первые гости, прибывшие на свадьбу из Смоленска.
Пока в нижних комнатах приносились поздравления невесте, в верхних покоях, отведенных молодому хозяину, царила полная тишина.
Укрывшись в своих комнатах, молодой человек выжидал удобной минуты, чтобы незаметно исчезнуть из дому. Если не случится сегодня посиделок в Новоспасском, придется пройти за песнями еще с версту – до Починка. Стоя у стола, Глинка раскрыл первую попавшуюся на глаза книгу. Тут же, на столе, тщательно сохранялись спутники детства: и гербарий, и диковинные камешки, обточенные Десной, и любимейшая из книг – «История о странствиях вообще по всем краям земного круга». Рядом покоятся и детские тетради с выписками из «Странствий», над которыми он когда-то столько потрудился.
Возвращаясь в отчий дом, Глинка всегда оглядывался на эти памятные меты жизни, словно измеряя пройденный путь. Любимые «Странствия», как встарь, приглашали в неведомую даль. А на соседней полке покоился недавний его набросок – вариации на тему песни «Среди долины ровныя». Уже в первой из этих вариаций в лад главному голосу по-своему вторили подголоски. И веяло от них тем полевым раздольем, в котором родилась сама песня. Но недаром пьеса была положена на полку – вариациям все еще не хватало той высшей свободы, с которой сливаются в русской песне голоса.
Размышляя, Глинка постоял у клеток с птицами, которых, как и в детстве, завел во множестве. В смутном видении ему слышались звуки, не похожие на прежние его создания. Может быть, эти звуки стали бы еще явственнее, если бы не спугнул их чей-то нетерпеливый стук. Стук повторился несколько раз.
– Войдите!
– Мишель, – еще с порога начала Поля, – узнаешь ли ты нашу дорогую гостью?
А гостья уже впорхнула в комнату и, смеясь, но ничего не говоря, протянула ему руки.