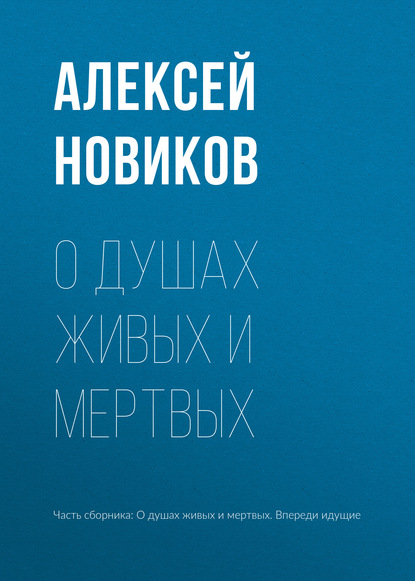По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О душах живых и мертвых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зову в свидетели бога и Ивана Ивановича, – продолжал Лермонтов, едва пряча улыбку, – я нисколько не шучу, хотя новость моя ничуть не примечательна.
– Если это не мистификация… – Краевский побледнел и глядел на Лермонтова не отрываясь, – если это не мистификация, сударь, то говори по крайней мере, с кем тебя угораздило драться?
– Господин де Барант, сын французского посла, удостоил меня чести скрестить с ним шпаги. Увы! Шпага моя сломалась при первом выпаде, и тогда мы были вынуждены перейти на пистолеты.
Едва услышав эти подробности, Краевский быстро пошел к дверям.
– Никого не принимать! – крикнул он в переднюю, потом наглухо закрыл двери и сел в первое попавшееся кресло.
Панаев, наоборот, встал. Оба они являли столь комическое зрелище, что Лермонтов неудержимо расхохотался.
– Признаюсь, никак не рассчитывал на подобный эффект!
– И это надежда и слава российской поэзии! – вскричал Краевский. – Наследник Пушкина! А дерется, как желторотый прапорщик! – И он закрыл лицо руками.
– Если это не тайна, Михаил Юрьевич, – Панаев подошел к поэту, – если вы сочли нас достойными доверия в таком деликатном деле, то, может быть, вы откроете причину столь печального происшествия?
– Извольте! – Лермонтов был все в том же веселом, даже задорном настроении. – Но если я скажу вам, что ни одна из женщин не была истинной причиной столкновения, то удовлетворит ли вас такой ответ?
– Да скажешь ли ты наконец правду?! – взмолился редактор «Отечественных записок». – Я больше не выдержу!
– А между тем, – продолжал поэт, – я должен обратиться именно к тебе, Андрей Александрович, и с неожиданной просьбой. Шпага противника царапнула мне руку и грудь. Раны несерьезны, но кровоточат. Мне не хотелось ехать к бабушке, чтобы ее не встревожить. Короче говоря, мне нужна чистая рубаха, и я решил, что редактор «Отечественных записок» по своему великодушию не откажет в этой просьбе, не совсем, правда, обычной.
Хозяин дома, пребывая в полной растерянности, увел Лермонтова в спальню и снова наглухо закрыл за собой дверь. Панаев прислушивался, но, как ни напрягал слух, ничего не мог разобрать. По счастью, дверь спальни вскоре открылась.
– Так вот, господа, – продолжал Лермонтов, но уже и тени улыбки не было на его лице, а речь звучала искренне и задушевно, – мне пришлось защищать на этой дуэли честь русского имени, хотя, признаюсь, не назвал бы этот способ защиты наилучшим. Но что делать, выбор от меня не зависел. А французик…
– Надеюсь, он не убит и не ранен? – перебил Краевский и почти застонал: – Боже мой, что будет теперь в дипломатическом мире!
– Господин де Барант покинул поле битвы совершенно невредимым.
– Слава тебе, господи! – Краевский неожиданно для себя перекрестился. – Не хватало еще, чтобы отношения России с Францией, и без того натянутые, получили новый повод для осложнений!
– Но именно дерзкое презрение к русским со стороны вертопраха, явившегося к нам с парижских бульваров, и вынудило меня дать урок этому просвещенному неучу, не умеющему уважать достоинства ни французов, ни русских.
– Михаил Юрьевич, да расскажи по порядку, иначе невозможно понять!
Краевский давно потерял привычную выдержку, даже шелковая его шапочка была сбита набок, а он ничего не замечал.
Лермонтов оглядел собеседников и, по-видимому насладившись впечатлением, снова заговорил шутливым тоном.
– Если вас интересуют подробности, – сказал он, – то встреча состоялась на Парголовской дороге, за Черной речкой, сего февраля восемнадцатого дня тысяча восемьсот сорокового года…
– Он меня с ума сведет! – не выдержал Краевский и с необыкновенной для него поспешностью бросился к графину, налил полный стакан воды и выпил залпом.
– Но как же я буду рассказывать, Андрей Александрович, если ты постоянно меня перебиваешь?
Андрей Александрович молча бухнулся в кресло, совершенно не заботясь о редакторском достоинстве.
– Да и что рассказывать! – Лермонтов опять выдержал паузу. – Когда моя шпага сломалась и мы перешли на пистолеты, противник мой, будучи в волнении, плохо прицелился и промахнулся.
– А!.. – только и мог произнести хозяин дома.
– Да, представьте, промахнулся, – повторил поэт, – а я, выждав его выстрела…
– Тоже промахнулись? – догадался Панаев.
– Не совсем так: я выстрелил в сторону. После выстрела противника я мог показать ему полное равнодушие к его участи, и, право, это много приятнее, чем целить в человека, что бы ни говорили рыцари дуэли… Вот, собственно, и все, господа.
Лермонтов направился к письменному столу Краевского, на котором, роясь в рукописях, любил устраивать полный беспорядок. Краевский, опомнившись, быстро обогнал его и встал в оборонительную позу.
– Не буду, не буду! – рассмеялся Лермонтов. Он взял со стола только что вышедшую февральскую книжку журнала. – Какие новые таланты явились в «Отечественных записках»?
– Вот она, твоя «Тамань», – Краевский взял журнал из рук поэта и раскрыл отдел прозы, – вот твоя благоуханная повесть, которой суждено открыть новую эру в изящной словесности. Вот она! – с торжеством заключил он.
Лермонтов мельком взглянул на свою «Тамань».
– Советую беспощадно вычеркивать все «эры» и «благоухания» из критических статей о моей повести, если такие статьи объявятся, – сказал он.
– Ну, будем тогда называть твою повесть русской «Ундиной», в пику достопочтенному Василию Андреевичу Жуковскому, в которого ты на сей раз метил…
– А пора бы и Василию Андреевичу оставить заемные сказки.
– Однако, – назидательно сказал Краевский, – ходят слухи, что сейчас Жуковский в большой силе при дворе.
– Печальная участь для таланта…
– Ох, язык твой – враг твой, Михаил Юрьевич! – Краевский предпочел перевести разговор. – А твой роман? – спросил он. – Разрешила ли наконец его цензура?
– Увы! Цензор все еще размышляет. А кому, как не тебе, Андрей Александрович, знать всю глубину и медлительность этих размышлений! Не завидую, однако, Печорину, он попал в дурное общество и, надо думать, торопится от него избавиться. К сожалению, решение принадлежит не ему, а цензору. Впрочем, жду решения со дня на день.
– А теперь эта проклятая дуэль! – Краевский снова вернулся к только что сообщенному ему известию. – Неужто не понимаешь, Михаил Юрьевич, что теперь ты сам себя поставил под удар? Не ты ли трижды виноват перед словесностью?
Лермонтов, не отвечая Краевскому, обратился к Панаеву:
– Иван Иванович, попотчуйте нас каким-нибудь, только не литературным, известием. Хотя бы в благодарность за историю, которую я вам рассказал.
Но и Панаев чувствовал себя не в своей тарелке. Новость была чревата последствиями, которых нельзя было предвидеть. Оба собеседника наперебой засыпали поэта вопросами о дуэли.
– Довольно, господа! – Лермонтов решительно отмахнулся. – Право, не стоит ни времени, ни труда… Надеюсь, рассказ мой останется тайной?
– Еще бы! – откликнулся Краевский. – Если только в Петербурге может остаться тайной подобная история.
– Нет никаких оснований опасаться огласки, – сказал поэт, – все меры осторожности взяты. – Он еще раз бегло просмотрел книжку «Отечественных записок». – А, вот наконец та статья о Марлинском, которой ты наперед хвастал, Андрей Александрович!
– И вновь рекомендую ее твоему вниманию.
– Михаил Юрьевич! – перебил Панаев. – Своей «Бэлой» вы начали поход против кавказских повестей Марлинского-Бестужева. Теперь, под ударом статьи Белинского, окончательно рухнет его литературная, подточенная временем слава.