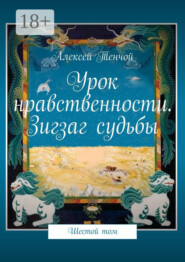По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайна родового древа. Исторический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бог шельму метит! – потирая ладони, приговаривал барин.
Предавая тело земле, он собственноручно вогнал длинный осиновый кол в её грудь, после чего приказал слугам, чтобы зарывали могилу.
С прудом было покончено, и помещик, довольный собой, наливал себе водки стакан за стаканом. Отобедав славно да матерком помянув грешную душу монашки, Сергей Иванович отправился почивать.
Ему не спалось, он ещё налил себе винца и со стаканом вышел на балкон.
Приняв на грудь очередную порцию алкоголя и опершись о балюстраду, Пантелеймонов приподнялся на цыпочки и застыл. Страх снова парализовал его тело: вытянутая чёрная тень быстро скользила по дороге, приближаясь к воротам поместья.
– Свят, свят, свят… – взмолился Сергей Иванович.
Монашка, покрытая с головой чёрным палантином, остановилась у ворот и, взявшись за кольцо, сильно постучала им о калитку.
Широко осенив себя крестом, помещик бросился обратно в комнату.
Захлопнув за собой дверь, перепуганный насмерть барин дрожащими руками закрыл задвижку и плотно задёрнул шторы.
– Не-е-ет, – протянул он, – этого не может быть. Чур-чур-чур меня.
Снова наложив на себя крест и отпрянув от окна, Пантелеймонов поспешил к кровати.
Задув свечу, он зарылся в одеяла с головой и молился, одновременно с этим прислушиваясь к звукам, доносившимся снизу, да в силу сильного опьянения так и уснул, скованный страхом.
А поутру барыня поведала ему ужасную весть: монашка появилась в доме и, до полусмерти пугая его отпрысков, ходила по их комнатам, манила к себе и пела им колыбельные песни.
Прислуга также была перепугана визитом монашки и божилась помещику, что видела, как женщина в чёрных одеждах бродит по длинным коридорам и заглядывает в комнаты.
КУХАРКА ГЛАФИРА
Конюх Филипп по приказу помещика порол кухарку Глашку, как и других особ женского полу, за сходство с монашкой – уже не в первый раз.
С каждым взмахом розог его сердце сжималось от жалости к ней, и он, сам многократно побывавший под нещадной поркой помещика, сопереживал бедной бабе, но всё, чем мог помочь, – лишь незаметно для стороннего глаза ослабить руку, опуская на бабью спину прут.
Глашка поначалу вскрикивала, а потом впала в беспамятство, перестав кричать, и только вздрагивала всем телом от каждого удара.
«Ещё немного, и всё – её душа покинет тело», – подумал Филипп и, посмотрев на Пантелеймонова, сказал:
– Не выдержит она, барин, всё уже.
– Хватит ей, – скомандовал тогда помещик, – приведи её чувство, а там пусть идёт на кухню, ужин мне готовит.
Сам же он отправился в свой кабинет, развалился в широком рабочем кресле и прямо в сапогах закинул ноги на стол. Налил из резного хрустального графина полный стакан анисовой водки, залпом опрокинул его в себя и, довольно крякнув, расслабился, свесив руки с подлокотников, откинул назад голову и задремал.
Филипп украдкой облегчённо вздохнул:
– Слава Богу, живая баба останется.
Он отвязал от крепежей её руки и ноги, расстегнул ремень, которым кухарка была пристёгнута к скамье по талии, потом взял ведро холодной воды и окатил из него Глашу, чтобы привести в сознание.
Бедная женщина, застонав, открыла глаза, но со скамьи встать самостоятельно не могла и лежала, тупо уставившись в одну точку. По её щекам обильно стекали струйки воды и, мешаясь со слезами, капали наземь. Из горла Глашки сперва вырвался тихий хрип, а потом послышались рыдания.
– Вставай, милая, – помог Филипп ей подняться.
Он бережно прикрыл её тряпкой, похожей на замусоленную простынь, подхватил в охапку одежду и, поддерживая Глашу, сопроводил в хозяйственные помещения, где она могла бы привести себя в порядок.
Когда к вечеру Глаша накрывала стол для барина, тот подивился:
– О, бабы, как на собаках всё заживает, по ней кнут каждый день ходит, а ей все нипочём!
Помещик с силой хлопнул её по заду. От неожиданности и боли Глаша, вздрогнув и дёрнувшись всем телом, опрокинула на помещика супницу, кою спешила ему подать.
– Сука! – дико взревел Пантелеймонов, стряхивая с себя горячую лапшу.
А потом, ухватив кухарку за шкирку, поволок её за дворовые ворота и сам лично выпорол на глазах дворни. Бросил он её там же лежащей на земле, кинув на неё кусок тёмной мешковины, и запретил кому-либо к ней приближаться.
Когда стемнело, она, кое-как поднявшись с земли, покрытая рубищем, опираясь на ограду, подошла к калитке и, взявшись за кольцо, открыла её.
Именно тень кухарки Глафиры, облачённой в тряпьё, помещик и увидел со своего балкона, приняв её за призрак монашки.
Глафира, держась за стенку, пробиралась в свою комнату, которая находилась в том же крыле дома, что и детские. Едва живая, перепутав двери, она вошла не в свою комнату и в темноте, пройдя к кровати и плюхнувшись на её край, тоненько завыла в плаче.
Дочка помещика, завидев на своей постели тёмный силуэт, как ей показалось, напевающей женщины, дико завопила.
Глафира, от шока придя в сознание, вскочила и бросилась бежать, но в дверях столкнулась с барыней, которая заорала с ней в унисон ещё громче детей и от парализовавшего её страха бухнулась в обморок.
Пока зажигали свет и приводили барыню в чувство, Глафира, с готовым выскочить из груди сердцем в ожидании дальнейшей расправы над ней, лежала в своей постели.
От барыни и её перепуганных отпрысков все узнали, что ночью они повстречались с призраком монашки. Об этом же твердила и нянька, дабы отогнать от себя подозрения в том, что уснула за работой.
КОНЮХ ФИЛИПП
Конюх Филипп в свои неполные сорок лет не огрубел, не очерствел от холопской жизни, но оставался человеком порядочным и дюже жалостливым по своей натуре.
Он до такой степени проникся к кухарке Глафире сочувствием, что поначалу жалел бедную бабу, которой более всех доставалось от помещика, а после и вовсе испытал к ней сердечное и телесное тяготение. Да не простое влечение к женскому телу охватило его, а та самая страсть, с коей просыпается в мужчине сильнейшее в мире чувство и он возгорается любовью к одной-единственной женщине.
Никак Глашка не шла из его ума, и, часами ворочаясь в подсобном помещении при конюшне на соломенной лежанке, покрытой коровьими шкурами, он не мог более спокойно засыпать, а всё думал да тайно мечтал о ней.
«И фигурка-то у неё, – успел отметить он, пока она оголённая лежала под плетью, – очень даже ничего, и готовит лучше всех, и личиком такая смазливая!» Но разве подойдёшь к барину и испросишь разрешения на женитьбу, когда он в последнее время так лютует и изводит боем своих крестьян?
И от безысходности, одиноко ежась в своём закутке, Филипп, хоть и мысленно, а всё же тискал в своих фантазиях Глашкино тело.
Думы о женитьбе на Глафире не давали ему спокойно жить, уж больно велико было его желание засыпать с возлюбленной в одной постели. И с каждым днём, всё чаще бросая на Глафиру тайный взгляд, он больше и больше утверждался в своём желании быть с ней.
Да и Глаша для себя тоже отметила и заботу о ней, и проявленное сопереживание Филиппа и стала, отвечая ему взаимностью, глядеть на него другим – с большей нежностью – взглядом.
Втайне кухарка также лелеяла думы о нём и страстно желала его крепких объятий. Отныне она всегда старалась отправить в конюшню побольше еды, повкусней да пожирней, что не ускользнуло от внимания наблюдательного Филиппа.
Так, незаметно для себя, они стремительно шли на сближение друг с другом.