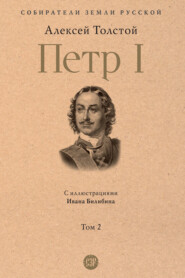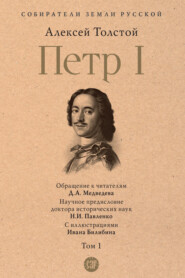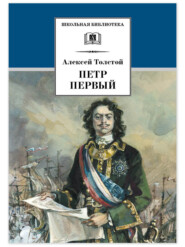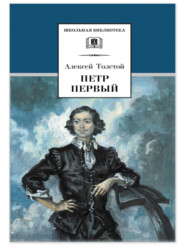По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петр Первый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
4
Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь – длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Как всегда, народу было много у лавок, но увы – все меньше с каждым днем можно было купить что-либо съедобное: пучок редиски, ободранную кошку вместо кролика, немного копченой конины. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт, чего напрасно людей моришь…» Но возмутить генерала было невозможно.
Когда на городских часах пробило девять – он подошел к своему чистенькому домику и стал вытирать подошвы о половичок, лежавший на ступеньке. Чистоплотная горничная отворила дверь и, низко присев, взяла у него шлем и вынутую из перевязи тяжелую шпагу. Генерал вымыл руки и с достойной медлительностью пошел в столовую, где пузырчатые круглые стекла низкого окна – во всю стену – слабо пропускали зеленый и желтый свет.
У стола в ожидании генерала стояла его жена, урожденная графиня Шперлинг – особа с тяжелым нравом, три сутулые жидковолосые девочки с длинными, как у отца, носами и надутый маленький мальчик – любимец матери.
Генерал сел, и все сели, сложив руки, молча прочли молитву. Когда с оловянной миски сняли крышку, повалил пар, но соблазнительного в ней, кроме пара, ничего не было, – та же овсяная каша без молока и соли. Унылые девочки с трудом ее глотали, надутый мальчик, отталкивая тарелку, шептал матери: «Не буду и не буду…» На вторую перемену подали вчерашние кости старого барана и немного гороху. Вместо пива пили воду. Генерал, не возмущаясь, жевал мясо большими желтыми зубами.
Графиня Шперлинг заговорила быстро-быстро, кроша над тарелкой корочку хлеба:
– Сколько я ни пыталась за четырнадцать лет моего замужества, я никогда не могла вас понять, Карл… Есть ли в вас капля живой крови? Есть ли у вас сердце мужа и отца? Король посылает вам из Ревеля караван кораблей с ветчиной, сахаром, рыбой, копчениями и печениями… На вашем месте как должен поступить отец четырех детей? Со шпагой в руке пробиться к кораблям и привести их в город… Вы же предпочли невозмутимо поглядывать с башни, как русские солдаты пожирают ревельскую ветчину… А мои дети принуждены давиться овсянкой… Я не устану повторять: у вас камень вместо сердца! Вы – изверг! А злосчастный случай с фальшивой баталией!.. Теперь мне нельзя показаться в Европе… «Ах, вы супруга того самого генерала Горна, кого русские провели за нос, как дурачка на ярмарке?» – «Увы, увы», – отвечу я. Вы даже не знаете, что в городе каждая торговка называет вас старым журавлем на башне… Наконец, наша единственная надежда – генерал Шлиппенбах, желая нам помочь, гибнет под Венденом, – а вы, как ни в чем не бывало, сидите и невозмутимо жуете бараньи жилы, будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни… Нет – довольно! Вы должны отпустить меня с детьми в Стокгольм к королевскому двору…
– Поздно, сударыня, слишком поздно, – сказал Горн, и его белесые глаза, устремленные на окно, казалось, пропускали так же мало света, как эти пузырчатые стекла. – Мы прочно заперты в Нарве, как в мышеловке.
Графиня Шперлинг обеими руками схватилась за кружевной чепец и низко надвинула его.
– Теперь я понимаю – чего вы добиваетесь: чтобы я с моими несчастными детьми ела траву и крыс!
Надутый мальчик неожиданно засмеялся и посмотрел на мать; девочки слезливо опустили носы в тарелки. Генерал Горн несколько удивился: это несправедливо – он не добивается, чтобы его дети ели траву и крыс! Но он столь же невозмутимо окончил завтрак…
За дверью давно уже позвякивали шпоры его адъютанта Бистрема. Видимо, что-то случилось. Горн взял с полки очага глиняную трубку, набил ее, высек огонь, от фитиля зажег бумажку, закурил и только тогда покинул столовую.
Бистрем держал в руках его шпагу и шлем и несколько задыхался:
– Ваше превосходительство, в русском лагере внезапно началось движение, смысл которого мы не можем понять…
Генерал Горн опять пошел через площадь, полную встревоженного народа. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно – в русском лагере происходило необыкновенное: по всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в две линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меньшиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился… За царем и Меньшиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках восемнадцать желтых атласных знамен. На их складках извивались, в негодовании простирая лапы, восемнадцать королевских львов…
Эскадроны, царь, Меньшиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего: «Уррра! Виктория!» – во все варварские глотки…
5
В русском лагере веселились. С бастиона Глориа было хорошо видно, как вкруг царского шатра стреляли пушки, по их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Из царского шатра вдруг высыпало человек сорок, размахивающих кубками и кружками, один из них вскочил на коня и поскакал в сторону бастиона Глориа и за ним, догоняя, трубач. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни; трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.
– Пароль, пароль! – закричал посланник. – Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! – Был он пьян, румян, с кудрями, растрепанными ветром. Генерал Горн, нагнувшись с башни, ответил:
– Говори, я слушаю. Убить тебя успеем.
– Извещаю! – задрав веселую голову, кричал подполковник. – В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с Божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу. Снисходя на слезное прошение коменданта, ради мужественного сопротивления, офицерам оставлены шпаги, а трети солдат – ружья без зарядов… Знамен же и музыки лишены…
Громким голосом Бистрем переводил, офицеры, стоявшие позади Горна, негодующе переглядывались, один – вне себя – крикнул: «Врет, русская собака!» Подполковник Карпов широко размахнулся, указывая на далекий шатер, где еще стояли люди с кружками:
– Господа шведы, не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниеншанца и Юрьева конфузные баталии?.. В разумении этого главнокомандующий фельдмаршал Огильви предлагает вам сдать Нарву на честный аккорд… Послам для переговоров немедля прибыть в шатер. Чаши налиты, и пушки для виватов заряжены…
Генерал Горн ответил глухим голосом:
– Нет! Я буду воевать! – Лицо его с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки, жиловатые руки трепетали. – Ступай! Через три минуты велю стрелять…
Карпов отсалютовал шпагой, крикнул трубачу: «Отъезжай!» – и сам, вместо того чтобы ускакать, заехал на пляшущей лошади по другую сторону башни. Офицеры кинулись к зубцам, он крикнул им:
– Это кто из вас, вор, невежа, облаял меня, русского офицера, что я вру? Переводчик, переведи живее… А ну, выезжай-ка, если ты смел, сойдемся на поле один на один…
Офицеры закричали. Один, толстый, побагровел, затряс кулаками, вырываясь от товарищей… Защелкали курки ружей. Карпов, лежа на шее коня, помчался прочь от башни, – вдогонку выстрелы, посвист пуль. Шагах в двухстах он остановился и, горяча и сдерживая коня, стал ждать противника… Не слишком скоро завизжали на петлях ворота, упал мост, и толстый офицер поскакал по полю к Карпову. Был он выше ростом, и лошадь его крупнее, и шпага шведская на два вершка длиннее русской. Для поединка он надел железную кирасу, у Карпова из-под расстегнутого кафтана ветром раздувало кружева.
По обычаю, противники, прежде чем съехаться, начали браниться, один свирепо вылаивал угрюмые слова, другой застрочил московской матерной скороговоркой… Оба выхватили из чересседельных кобур пистолеты, вонзили шпоры и кинулись друг на друга. Враз выстрелили. Швед далеко вперед себя вытянул шпагу, Карпов по-татарски перед носом его коня увернулся, обскакал кругом его и выстрелил из второго пистолета. Швед стукнул зубами и заворчал и опять кинулся с такой злобой, – Карпов тем только и спасся, что загородился лошадью, шпага противника глубоко вонзилась ей в шею… «Эх, погубил коня, – подумал он, – пеший не выстою…» Но швед, как сонный, выпустил рукоять шпаги, зашатался, шаря левой рукой пистолет в кобуре. Соскочив с падающей лошади, Карпов несколько раз ударил его лезвием в бок под кирасу и глядел, задыхаясь, как швед стал все сильнее раскачиваться в седле… «Черт, здоров, умирать не хочет!» – и, прихрамывая, побежал к своим…
…Ночная тень покрыла поле, упала роса, давно затихли выстрелы, задымились костры кашеваров, всякая тварь устраивалась на покой, но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов: «Уууууух-нем…» Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы под самый Иван-город, и скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе.
На рассвете с башен Нарвы увидели, как по ямгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скопления войск.
Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город на бастион Гонор, примыкавший к берегу реки. Там он взошел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медные страшилища на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. Он проглядел в обороне два самых слабых места – считавшийся неприступным Гонор, который новыми стенобитными пушками русских будет разнесен в несколько дней, и бастион Виктория, прикрывающий город со стороны реки, – также кирпичный, ветхий, времен Ивана Грозного. Два месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против Гонора, Виктории и Иван-города, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам…
«Очень хорошо, все ясно, глупые шутки кончены, будем драться, – ворчал Горн, шагая по равелину помолодевшей походкой. – С нашей стороны выставим шведское мужество… Этого не мало». Он обернулся к кучке офицеров:
– Ад будет здесь! – и топнул ботфортом. – Здесь мы подставим грудь русским ядрам! Русские спешат, нам нужно спешить. Приказываю собрать в городе всех, кто способен ворочать лопатой. Падут стены, будем драться на контр-апрошах, будем драться на улицах… Нарву русским я не отдам…
Поздно вечером генерал Горн приехал домой и, сидя за столом, жевал большими зубами жиловатое мясо. Графиня Шперлинг была так испугана рыночными разговорами, что молчала, подавившись негодованием. Надутый мальчик сказал, ведя намусленным пальцем по краю тарелки:
– Мальчишки говорят – русские всех нас перебьют…
Генерал Горн выпил глоток воды, о свечу закурил трубку, положил ногу на ногу и ответил сыну:
– Ну что ж, сынок, человеку важно выполнить свой долг, а в остальном положись на милосердие Божие.
6
Всякую бы другую такую длинную и скучную грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову: «Прочти, изложи вразумительно», – но это была диспозиция фельдмаршала Огильви. Если считать, что жалованье ему шло с первого мая и ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в семьсот золотых ефимков, не считая кормов и другого довольствия. Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в лад ей, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала.
Вокруг свечей кружилась зелененькая мошкара, налетали страшные караморы, опалившись – падали навзничь на бумаги, разбросанные по столу, закружился было, задувая свечи, бражник – величиной с полворобья (Петр Алексеевич вздрогнул, он не любил странных и бесполезных тварей, в особенности тараканов). Макаров сорвал с себя парик, подпрыгивая, выгнал бражника из шатра.
Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, – низенький, с влажными, улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. Петр давно присматривался к нему – достаточно ли умен, чтобы быть верным, по-большому ли хитер, не жаден ли чрезмерно? За последнее время Шафиров из простого переводчика при Посольском приказе стал там большой персоной, хотя и без чина.
– Опять напутал, напетлял! – сказал Петр Алексеевич, морщась. Шафиров взмахнул маленькими руками в перстнях, сорвался, наклонился и скоро, точно перевел темное место.
– А, только-то всего, а я думал – премудрость. – Петр сунул гусиное перо в чернильницу и на полях рукописи нацарапал несколько слов. – По-нашему-то проще… А что, Петр Палыч, ты с фельдмаршалом пуд соли съел, – стоящий он человек?
Сизобритое лицо Шафирова расплылось вширь, хитрое, как у дьявола. Он ничего не ответил, даже не из осторожности, но зная, что немигающие глаза Петра и без того насквозь прочтут его мысли.
– Наши жалуются, что уж больно горд. К солдату близко не подойдет – брезгует… Не знаю – чем у русского солдата можно брезговать, задери у любого рубаху – тело чистое, белое. А вши – разве у обозных мужиков только… Ах, цезарцы! Зашел к нему нынче утром – он моется в маленьком тазике, – в одной воде и руки вымыл и лицо и нахаркал туда же… А нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был.
– Не был, не был… – Шафиров весь трясся – смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев. – В Германии, – он рассказывал, – когда господину нужно вымыться – приносят чан с водой, в коем он по надобности моет те или иные члены… А баня – обычай варваров… А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку, и толченого, и рубленого, и просто так – равно, и холопы и бояре… В первые дни он затыкал нос платочком…
– Да ну? – удивился Петр. – Что ж ты раньше не сказал… А и верно, что много чесноку едим, впрочем, чеснок вещь полезная, пускай уж привыкает…
Он бросил на стол прочитанную диспозицию, потянулся, хрустнул суставами и – вдруг – Макарову:
– Варвар, смахни со стола эту пакость, мошкару… Вели подать вина и стул для фельдмаршала… И еще у тебя, Макаров, привычка: слушать, дыша чесноком в лицо… Дыши, отвернувшись…