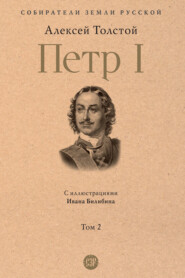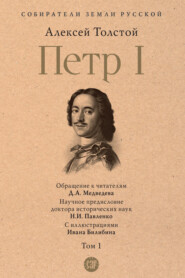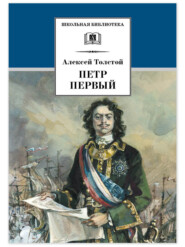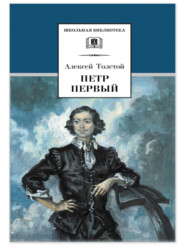По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Древний путь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда раздался звук трубы – тра-та-татаам, – зуавы горохом посыпались с палубы на корму. Там у открытого дощатого камбуза высокий негр в белом колпаке черпал из дымящихся котлов, разливал суп в солдатские котелки. «Полней, горячей!» – кричали зуавы, смеясь и толкаясь. Вонзали зубы в хлеб, со звериным вкусом хлебали бобовую похлебку, запрокинув голову, лили красной струей в рот вино из манерок. Еще бы: в такой горячий, лазурный день можно съесть гору хлеба, море похлебки! За камбузом, привязанный к стреле подъемного крана, стоял рыжий старый бык, взятый в Солониках. Он мрачно озирался на веселых солдат. «Съедят, – очевидно, думалось ему, завтра непременно съедят…» Зуав с пушком на губе, с длинными глазами, взмахнув манеркой, закричал ему: «Не робей, старина, завтра принесем тебя в жертву Зевсу!..»
На солдатский обед смотрело с верхней палубы семейство сахарозаводчика, бежавшее из Киева. Здесь были сам сахарозаводчик, похожий на лысого краба в визитке; его сын, лирический поэт с книжечкой в руке; мама в корсете до колен и в собольем меху, из которого торчал седоватый кукиш прически; модно одетая невестка, боящаяся грубостей; трое детей и нянька с грудным ребенком. Папа-краб негромко хрипел, не вынимая изо рта сигары:
– Мне эти солдаты мало нравятся, я не вижу ни одного офицера, у них мало надежный вид.
– Это какие-то грубияны, – говорила мама, – они уже косились на наши сундуки.
Сын-поэт глядел на полоску пустынного берега Эвбеи. «Хорошо бы там поселиться с женой и детьми, не видеть окружающего, ходить в греческом хитоне», – так, должно быть, думал этот богатый молодой человек с унылым носом.
Зуавы внизу отпускали шуточки:
– Смотри, вон тот, пузатый, наверху, с сигарой…
– Эй, дядя-краб, брось-ка нам табачку…
– Да скажи невестке, чтоб сошла вниз, мы с ней пошутим…
– Он сердится… О, ля-ля! Дядя-краб, ничего, потерпи – в Париже тебе будет неплохо.
– Мы напишем большевикам, чтобы вернули тебе заводы…
Шумом, хохотом, возней зуавы наполнили весь этот день. Горячая палуба трещала от их беготни. Им до всего было дело, всюду совали нос – будто взяли «Карковадо» на абордаж вместе с пассажирами первого класса. Папа-краб ходил жаловаться капитану, тот только развел руками: «Жалуйтесь на них в Марселе, если угодно…» Дама с собачками, сильно обеспокоенная за участь своих четырех девушек, заперла их на ключ в каюте кочегара. Русские офицеры не показывались больше на палубе. Поляк, возмущенный хамским засилием, тщетно искал приличных партнеров. Выполз из трюма русский общественный деятель, англофил – в пенсне, с растрепанной бородой, где засела солома, – и стал наводить панику, доказывая, что среди зуавов переодетые агенты Чека и не миновать погрома интеллигенции на «Карковадо».
Ночью огибали Пелопоннес – суровую, каменистую Спарту. Над темным зеркалом моря сияли крупные созвездия, как в сказке об Одиссее. Сухим запахом полыни тянуло с земли. Поль Торен припоминал имена богов, героев и событий, глядя на звезды, на их бездонные отражения. Снова ночь без сна. Он измучился дневной суетой. Но странное изменение произошло в нем. Глаза поминутно застилало слезами. Какое величие миров! Как мала, быстролетна жизнь! Как сложны, многокровны ее законы! Как он жалел свое сердце больной комочек, отбивающий секунды в этой блистающей звездами вселенной! Зачем вернулось желание жить? Он уже примирился, уходил в ничто печально и важно, как развенчанный король. И вдруг – отчаянное сожаление… Зачем? Какие чары заставили снова потянуться к солнечному вину? Зачем это нагромождение мучений?.. Он старался сызнова восстановить ткань недавних мыслей о гибели цивилизации, о порочном круге человечества, о том, что, уходя, он уносит с собой мир, существующий постольку, поскольку его мыслит и одухотворяет он, Поль Торен… Но ткань порвалась, лохмотья исчезали, как туман. А в памяти перекликались веселые голоса зуавов, стучали их варварские шаги. Вспомнил пастуха на вершине острова, женщину, срезающую виноград, черных грузчиков, с хохотом швыряющих вниз угольные корзинки…
«Так будь же смелым, Поль Торен! Тебе терять нечего. Есть твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырос, то, из-за чего считаешь всякий свой поступок разумным и необходимым… А есть жизнь миллионов. Ты слышал топот их ног по кораблю?.. И жизнь их не совпадает с твоей правдой. Они, как те синеглазые пелазги, смотрят с дикого берега на твой гибнущий корабль с изодранными парусами. Взывай с поднятыми руками к своим богам. В ответ с неба только огонь и грохот артиллерийской канонады…»
Эту ночь Поль провел на палубе. Утренняя заря разлилась коралловым, розовым сиянием, теплый и влажный ветер заполоскал солдатское белье на вантах, замычал рыжий бык, и из воды, как чудо, поднялся шар солнца. Ветер затих. Пробили склянки. Раздались хрипловатые голоса просыпающихся. Начался жаркий день. Зуавы босиком, подтягивая штаны, побежали мыться, с диким воем обливали друг друга из брандспойта. Задымился дощатый камбуз. Высокий негр в белом колпаке скалил зубы.
Сквозь пелену бессонницы Поль Торен увидел, как за кормой парохода потянулся густой кровавый след, окрашивая пену. Это в жертву Зевсу был принесен бык. Он лежал на боку с раздутым животом, из перерезанного горла текла кровь по желобу в море. Туда же бросили его синие внутренности. Ободранную тушу вздернули на мачте. Размахивая огромной ложкой, негр держал зуавам речь о том, что на реке Замбези – его родине – еду называют кус-кус, и что эта туша – великий кус-кус, и хорошо, когда у человека много кус-куса, и плохо, когда нет кус-куса!..
– Браво, шоколад!.. Свари нам великий кускус! – топая от удовольствия, кричали зуавы.
Пылало солнце. Через море лежал сверкающий путь. Воздушные волны зноя колебались на юге. Казалось – там, у берегов Африки, бродят миражи. В полдень из раскаленного нутра парохода послышался короткий, пронзительный женский крик. Затем засмеялось несколько мужских голосов. Жаба с собачками, выкатив глаза, перекосившись, пробежала по палубе, за ней собачки с бантами. Оказывается, зуавы пронюхали, где сидят четыре девчонки, и пытались сломать дверь в кочегарке. Были приняты какие-то меры. Все успокоилось. Первый класс казался вымершим. Зуавы лежали в одних тельниках на раскаленной палубе. Поль Торен мучительно хотел согреться, но солнце не прожигало озноба, постукивали зубы, красноватый свет заливал глаза.
– Плохо, старина? – спросил за спиной чей-то голос, негромкий, суровый.
Не удивляясь, не оборачиваясь, Поль пошевелил ссохшимися губами:
– Да, плохо.
– А зачем заваривали кашу? А зачем варите эту кашу? Теперь понимаешь что такое ваша цивилизация? Смерть…
Ледяной холодок пробегал по сухой коже, гудело в ушах, как будто гудели маховые колеса. Полю показалось, что от его шезлонга кто-то отошел… Быть может, почудилось, потому что хотелось услышать звук человеческих шагов. Но нет, он даже чувствовал запах солдатского сукна того человека, кто сказал ему дерзкие слова… Значит – правда, что на пароходе агенты Чека… Жаль, что прервался разговор…
И сейчас же на глаза Поля спустилась зыбкая картина воспоминаний. Он увидел…
…Глиняные стены жаркой хаты, большая белая печь с нарисованными на углах птицами и цветками. На земляном полу лежит на боку человек в коротком полушубке, руки завязаны за спиной. В кудрявых волосах запеклась кровь. Лицо, бледное от ненависти и страдания, обращено к Полю. Он говорит по-французски с грубоватым акцентом:
– Откуда приехал, туда и уезжай… Здесь не Африка; мы хоть и дикие, да не дикари… Свободу свою не продадим. До последнего человека будем драться… Слышишь ты – России колонией не бывать! Врешь, брат, под твоими красивыми словами – плантатор.
– Какой вздор! – Поль страшно искренен. – Какой вздор! Мы не о колониях думаем. Мы спасаем величайшие ценности. Однажды было нашествие гуннов, мы их разбили на Рейне. Теперь разобьем их на Днепре.
Лежащий нагло усмехнулся:
– Ты что же – из идеалистов?
– Молчать! – Поль стучит перстнем по дощатому столу. – Говорить вежливо с офицером французской армии!
– Чего мне молчать, все равно расстреляешь, – говорит связанный человек. – И напрасно… Ох, пожалеешь… Лучше развяжи мне руки, я уйду. А ты уезжай во Францию, да револьвер – не позабудь – по дороге брось в море… Все равно ваше дело проиграно. Нас – полмиллиарда. Твои руки – это мы, твои ноги – мы, брюхо твое – мы, голова – мы… А что твое? Ценности? Культура? – Наша… Хранителей других поставим, и – наша. (Раненый подполз к столу. Глаза его – расширенные, дикие, страшные – овладевали, давили…) Я вижу – ты честный человек, ты, может быть, один из лучших… Зачем же ты на их стороне, не на нашей? Они отравили тебя газом, заразили лихорадкой, пронзили твою грудь… Они растлили все святыни… Так зачем же ты с ними? Кусок хлеба и мы тебе обещаем… Проведи рукой по глазам, сними паутину веков… Проснись… Проснись, Поль…
Поль Торен со стоном открыл глаза. Когда кончится эта пытка? Колючие, перепутанные осколки воспоминаний, дневная суета перед глазами, гул стеклянных маховиков в ушах… Скорее бы темнота, тишина, небытие!
Погас и этот день. Снова над морем – пылающие миры, потоки черного света, в фокусах их скрещений возникающие из квантов энергии клубки первичной материи, и, гонимые светом из конца в конец по чечевице вселенной, летят семена жизни. Из одной такой микрожизни возник Поль Торен. И снова, когда-нибудь, его тело, его мозг, его память раскинется пылью атомов в ледяном пространстве.
В эту ночь, как в предыдущую, сестра не могла увести его в каюту. Когда она от досады заплакала, он поднял дрожащий, сухой, как сучок, палец к звездам:
– Это мне нужнее ваших микстур.
Ранним утром проходили мимо Калабрии: дикий берег, острые зубья скал, нагромождения лилово-серых камней. Редкие кусты в трещинах. Выше террасы бурых плоскогорий. Кое-где кучки овец. На мысу – такой же, как камни, замок – башня, развалины стен: старое разбойничье гнездо, откуда выезжали грабить корабли, заносимые штормом к этому чертову месту. Налево в мглисто-солнечном тумане курился дым над снежной вершиной Этны, голубели берега Сицилии. «Карковадо» несся по коротким волнам пролива, которого так боялся Одиссей. На палубу вышло семейство сахарозаводчика – все в спасательных поясах. Оказывается, здесь была опасность встретиться с блуждающей миной. Зуавы плевали в пролив. Но стремнину миновали благополучно. Ржавым носищем «Карковадо» резал теперь бирюзовоголубые воды Тирренского моря.
Общественный деятель с соломой в бороде, пройдя по палубе, громко сказал, ни к кому не обращаясь:
– Барометр падает, господа!
Действительно, жара усиливалась. Небо было металлического оттенка. На юге воздух ходил мглистыми волнами, как будто там кипятили воду. От праздности, от зноя, от нестерпимого света на пароходе стало твориться неладное. Говорили, что одну из жабиных девчонок этой ночью отвели наверх, в каюту капитана. Со вчерашнего дня капитан не показывался на мостике. Обнаружилось, что остальные девочки удрали из кочегарки. Одну удалось отыскать в трюме, где она ходила по рукам, кричала и царапалась. Ее заперли в аптеке под надзором фельдшера. Зуавы волновались, перешептывались. То один, то другой вскакивал с раскаленной палубы и исчезал где-нибудь в черных недрах парохода, где пахло крысами, плесенью и железные стены скрипели от вздохов машины.
Барометр падал. Под лодкой сидела русская дама пригорюнясь. Мальчик спал, положив мокрую от пота голову на ее колени. Затих даже стук ножей в камбузе. И вдруг где-то внизу произошла короткая возня – удары, рычание… На палубе появились двое – с волосами торчком, голые по пояс, в замазанных парусиновых штанах. Оглянувшись, они побежали. Передний показывал вытянутую окровавленную руку.
– Откусил палец, откусил палец, – повторял он надрывающимся глухим голосом. Остановился, неистово стащил с ноги деревянный башмак (другая нога – босая), швырнул его в море. Легко побежал дальше. – Откусил палец!
Другой, выше его ростом, бежал за ним молча. На жилистой спине его под лопаткой был виден кровавый желвак со следами зубов. Едким потом и кровью пахнуло по палубе. Сейчас же за этими двумя выскочил на палубу третий с узким лицом, черноволосый, в разорванной бязевой рубашке. Раздвинув ноги, он пронзительно свистнул, как будто ночью на пустыре. Зуавы вскочили. Глаза их дичали, усы топорщились. Быстро, плотно они окружили раненых кочегаров. Шумно дышали груди. Высокий, с желваком на спине, проговорил душераздирающе:
– Обе девчонки у него в каюте…
– У кого?
– У шоколада…
С откушенным пальцем крикнул:
– У него нож… У него огромный нож и вертел… Откусил мне палец… Наших всех зарежут здесь… Живым не доехать…
Снова свист. И тогда все – и солдаты и кочегары – побежали по трапам вниз. Немного спустя там грозно загудели голоса. На палубу выскочила из кают-компании жаба с обеими собачонками на руках, заметалась, как слепая. В каютах первого класса захлопали опускаемые жалюзи. Пробежал с испуганным лицом помощник капитана.
Кок-негр появился, наконец, в крутящейся толпе. Он здорово отбивался длинными руками. Белая куртка на нем – в клочьях, в пятнах крови. Он пятился к трапу. Вдруг фыркнул, зашипел на наседающих, в два прыжка взлетел на палубу и помчался по ней, выкатив белки глаз, как лупленые яйца. «Лови, лови!» – кричали зуавы, устремляясь за ним. Он вскарабкался еще выше, на капитанский мостик, и оттуда – головой вниз – мелькнуло его лакированное тело, упало в воду. Далеко от корабля, отфыркиваясь, вынырнула черная голова.
На «Карковадо» остановили машину. В море полетели спасательные круги. Негр подплыл к борту и ухватился за конец. Весело скалясь, он посматривал на свешенные через перила головы зуавов. Было ясно, что бить его уже больше не станут.