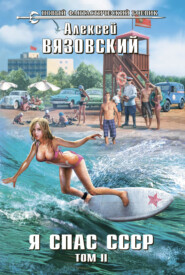По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я – Распутин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Странник. А звать меня Григорий Ефимович Распутин.
– Распутин – это от распутный человек? – поинтересовалась дочь Столыпина.
Ничего так, живая, любопытная.
Сиделка осуждающе покачала головой.
– Нет, милая. Распута – это перекресток, пересечка дорог. На нем стоит мое село Покровское.
– В Сибири?
– Там, красавица. В Тобольской губернии.
Сиделка тихо ушла, но в комнате тут же появилась статная дама, с такой увядшей русской красотой и припухшими от слез глазами.
Я поднялся, поклонился. Она представилась официально – Ольга Борисовна Столыпина.
– Мамочка, отец Григорий пришел! – Наташа пошевелилась в кровати, но тут же сморщилась и чуть не заплакала.
– Не отец он, доченька, и не пророк – простой сибирский мужик, даже не рукоположен.
Я лишь пристально смотрел в глаза жены премьера. Промолчал.
– Не надо меня мессимизировать, господин Распутин. Я во все эти сказки не верю!
– Не веришь и не надо… – я пожал плечами, принюхался, прошелся вдоль левой от входа стены. Женщины смотрели на меня в удивлении.
– Тяжкий тут дух-то… Поди недалече спальня Катьки Мужеубийцы.
– Ой, и правда… – Наталья посмотрела на меня в удивлении. – Сиделка говорила, что за соседней стеной Екатерина Великая умерла. А почему мужеубийцы?
– Поди вам в гимназиях не рассказывали?
Столыпина нахмурилась, произнесла, цедя слова:
– Не надо пугать девочку! Делайте то, ради чего посланы, и убирайтесь!
– Мамочка, ну пусть Григорий Ефимович расскажет!
– У Екатерины муж был, Петр Третий… – я посмотрел на Столыпину. Заткнет или нет?
Жена премьера лишь сжала губы.
– Знаю, – кивнула Наталья. – Внук Петра Первого.
– Ему сосватали невесту. Из немецких принцесс. Будущую Екатерину Вторую. Но семейная жизнь у них не задалась… – я замялся, не зная, как продолжить про любовников Фике. Посмотрел на Столыпину. Та лишь незаметно покачала головой.
– И она убила своего мужа?? – не выдержала Наталья.
– Не сама конечно же, подручные у нее были.
Прошелся еще раз по комнате, встряхнул руками.
– Тяжкий дух, тяжкий… – я покачал головой. – Но святая молитва завсегда помогает. Почистим сейчас ваше обиталище.
Я встал на колени перед кроватью Натальи, начал «Отче наш». Молился громко, медленно.
Столыпина быстро потеряла терпение, вышла из комнаты. А Наташа на последних словах даже присоединилась ко мне, перекрестилась.
– Исповедуешься ли, чадо? – спросил я.
– Исповедуюсь и причащаюсь, – кивнула дочка Столыпина.
– Тверда ли твоя вера?
– Тверда, отче!
– Тогда и пугаться нечего. Поправишься ты. И ходить будешь. Веришь ли моему слову?
– Верю, Григорий Ефимович!
* * *
Вот в этом вся российская власть. Нужен был – подали к крыльцу ландо, привезли. Нужда отпала? Иди домой пешком.
А мы не гордые… Я вышел из Зимнего, вдохнул морской воздух полной грудью. Рядом Нева несла свои свинцовые воды, дул холодный ветер. Но октябрьское солнышко постепенно нагревало город и уже успело расплавить снег. Дворники сгребали конские яблоки, по брусчатке мимо проехала богатая карета, запряженная четверкой лошадей.
Ко мне подошел усатый городовой с шашкой-селедкой на боку, строго спросил:
– Почто колобродишь у дворца? Кто таков?
– Тобольский крестьянин, Распутин. Вызывали к Столыпину.
– К самому первому министру? – поразился городовой.
– К нему.
– И зачем же ты ему нужон?
– То дело секретное, касаемо его детей.
Городовой снял фуражку, в сомнении почесал затылок.
– Ладно, иди.
И я пошел по Невскому. Он практически не изменился за сто лет – все так же по нему фланировала разодетая публика, сияли начищенные витрины магазинов и рестораций. По проспекту шла самая настоящая конка, и я не удержался – проехал пару остановок. Это было… необычно!
У дома Гейденрейха я вышел, заглянул на почту. Дал две телеграммы в Покровское. В одной коротко сообщал жене, что со мной все в порядке, я молюсь за нее и детей, высылаю переводом денег. Во второй, адресованной шурину Николаю Распопову, спрашивал не хочет ли он, вместе с моим покровским сомолитвенником Ильей Ароновым приехать в столицу. Имена односельчан я узнал из писем – судя по дружескому тону в переписке, это были люди, на которых можно положиться. А мне такие в Питере ой как нужны!
– Распутин – это от распутный человек? – поинтересовалась дочь Столыпина.
Ничего так, живая, любопытная.
Сиделка осуждающе покачала головой.
– Нет, милая. Распута – это перекресток, пересечка дорог. На нем стоит мое село Покровское.
– В Сибири?
– Там, красавица. В Тобольской губернии.
Сиделка тихо ушла, но в комнате тут же появилась статная дама, с такой увядшей русской красотой и припухшими от слез глазами.
Я поднялся, поклонился. Она представилась официально – Ольга Борисовна Столыпина.
– Мамочка, отец Григорий пришел! – Наташа пошевелилась в кровати, но тут же сморщилась и чуть не заплакала.
– Не отец он, доченька, и не пророк – простой сибирский мужик, даже не рукоположен.
Я лишь пристально смотрел в глаза жены премьера. Промолчал.
– Не надо меня мессимизировать, господин Распутин. Я во все эти сказки не верю!
– Не веришь и не надо… – я пожал плечами, принюхался, прошелся вдоль левой от входа стены. Женщины смотрели на меня в удивлении.
– Тяжкий тут дух-то… Поди недалече спальня Катьки Мужеубийцы.
– Ой, и правда… – Наталья посмотрела на меня в удивлении. – Сиделка говорила, что за соседней стеной Екатерина Великая умерла. А почему мужеубийцы?
– Поди вам в гимназиях не рассказывали?
Столыпина нахмурилась, произнесла, цедя слова:
– Не надо пугать девочку! Делайте то, ради чего посланы, и убирайтесь!
– Мамочка, ну пусть Григорий Ефимович расскажет!
– У Екатерины муж был, Петр Третий… – я посмотрел на Столыпину. Заткнет или нет?
Жена премьера лишь сжала губы.
– Знаю, – кивнула Наталья. – Внук Петра Первого.
– Ему сосватали невесту. Из немецких принцесс. Будущую Екатерину Вторую. Но семейная жизнь у них не задалась… – я замялся, не зная, как продолжить про любовников Фике. Посмотрел на Столыпину. Та лишь незаметно покачала головой.
– И она убила своего мужа?? – не выдержала Наталья.
– Не сама конечно же, подручные у нее были.
Прошелся еще раз по комнате, встряхнул руками.
– Тяжкий дух, тяжкий… – я покачал головой. – Но святая молитва завсегда помогает. Почистим сейчас ваше обиталище.
Я встал на колени перед кроватью Натальи, начал «Отче наш». Молился громко, медленно.
Столыпина быстро потеряла терпение, вышла из комнаты. А Наташа на последних словах даже присоединилась ко мне, перекрестилась.
– Исповедуешься ли, чадо? – спросил я.
– Исповедуюсь и причащаюсь, – кивнула дочка Столыпина.
– Тверда ли твоя вера?
– Тверда, отче!
– Тогда и пугаться нечего. Поправишься ты. И ходить будешь. Веришь ли моему слову?
– Верю, Григорий Ефимович!
* * *
Вот в этом вся российская власть. Нужен был – подали к крыльцу ландо, привезли. Нужда отпала? Иди домой пешком.
А мы не гордые… Я вышел из Зимнего, вдохнул морской воздух полной грудью. Рядом Нева несла свои свинцовые воды, дул холодный ветер. Но октябрьское солнышко постепенно нагревало город и уже успело расплавить снег. Дворники сгребали конские яблоки, по брусчатке мимо проехала богатая карета, запряженная четверкой лошадей.
Ко мне подошел усатый городовой с шашкой-селедкой на боку, строго спросил:
– Почто колобродишь у дворца? Кто таков?
– Тобольский крестьянин, Распутин. Вызывали к Столыпину.
– К самому первому министру? – поразился городовой.
– К нему.
– И зачем же ты ему нужон?
– То дело секретное, касаемо его детей.
Городовой снял фуражку, в сомнении почесал затылок.
– Ладно, иди.
И я пошел по Невскому. Он практически не изменился за сто лет – все так же по нему фланировала разодетая публика, сияли начищенные витрины магазинов и рестораций. По проспекту шла самая настоящая конка, и я не удержался – проехал пару остановок. Это было… необычно!
У дома Гейденрейха я вышел, заглянул на почту. Дал две телеграммы в Покровское. В одной коротко сообщал жене, что со мной все в порядке, я молюсь за нее и детей, высылаю переводом денег. Во второй, адресованной шурину Николаю Распопову, спрашивал не хочет ли он, вместе с моим покровским сомолитвенником Ильей Ароновым приехать в столицу. Имена односельчан я узнал из писем – судя по дружескому тону в переписке, это были люди, на которых можно положиться. А мне такие в Питере ой как нужны!