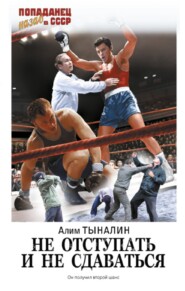По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Штык ярости. Южный поход. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Александр Васильевич, меня зовут Виктор, – ответил я, так как встретился, конечно же, с великим полководцем Суворовым или русским Марсом, как его иногда называли. – Можно просто Витя.
Опираясь на меня, военачальник доковылял до огромной постели, стоявшей в углу комнаты. Я уложил его и Суворов, прикрыв глаза, попросил:
– Прочитай стихи свои, Витя.
Я смущенно кашлянул в кулак.
– Это не мои стихи. Это другой поэт написал, – я хотел добавить, что он родился только в прошлом году и сейчас еще лежал в колыбели, слушая песни Арины Родионовны, но вовремя опомнился. – Я помню только часть стихов.
– Ну так давай, не медли! – закричал Суворов, открыв глаза и неистово глянув на меня. – Эдак мы до зимы проваландаемся. Я от мадригалов и элегий Мити еще больше хвораю, чем от ран!
Вот уж не думал, что когда-нибудь я буду стоять перед ложем Суворова и читать ему стихи Пушкина. За окном поднималось солнце девятнадцатого века, по набережной канала на каретах катались важные господа и дамы, а я стоял и декламировал с поднятыми руками. как заправский отличник перед учителем. Впрочем, всего «Евгения Онегина» я не помнил, поэтому прочитал только «письмо Татьяны».
Закончив, я некоторое время стоял и глядел на Суворова, а тот лежал, вытянувшись на кровати и молчал. Я подумал, что ему стало худо и хотел позвать на помощь, но тут генералиссимус открыл глаза и сказал:
– Недурно, помилуй бог, недурно. Слышу разящую поступь гения. Кто этот поэт?
После некоторого колебания я ответил:
– Я забыл его фамилию.
Суворов испытующе поглядел на меня и неожиданно закричал басом:
– Прошка! Где ты шляешься, прохиндей! Давай чаю!
Поначалу ничего не происходило, а затем дверь отворилась и заглянул давешний лохматый слуга. Это был, конечно же, знаменитый на всю Россию камердинер Прохор, любитель увеселительных напитков и самый преданный Суворову человек. Суровые глаза прятались под густыми бровями, в пышных усах застряли крошки табака.
– Так ведь давно-ж хотов чай, ваш сиятельство, – с обидой ответил он. – Тока скажите, буду-ж подавать.
Насколько я помнил, за итальянский и швейцарский походы Суворову дали княжеский титул, но слуга по старинке продолжал величать барина графом.
– Ну так давай его, брюхо просит! – приказал полководец и снова поморщился от боли в ногах. Затем ухмыльнулся мне. – Брюхо злодей, старого добра не помнит!
Он указал на стул и добавил:
– А теперь расскажи, кто таков и чего разгуливал под моими окнами. Может, ты востроглаз и за мной подсматривал?
Я так понял, что востроглазами он называл шпионов Тайной экспедиции. Улыбнувшись, я покачал головой.
– Упаси бог, Александр Васильевич. Я и сам от них прячусь.
– А с чего бы это? – строго спросил полководец и я обратил внимание, как сильно осунулось у него лицо. Он, в свою очередь, осмотрел мою странную одежду. – Набедокурил, что ли? Что за наряд на тебе иноземный?
– Я прибыл издалека, – ответил я, раздумывая, чтобы выдать эдакое позаковыристей. Суворов очень начитанный и образованный, враз раскусит плохо состряпанную легенду. – Там у нас все носят такую одежду.
– То-то я вижу, что говор у тебя тоже ненашенский, – заметил военачальник и хотел добавить что-то еще, но дверь открылась и вошел Прохор с подносом в руках.
Кушаний было несколько видов, некоторые супы томились в горшочках, другие блюда насыпали в тарелки. Здесь же стояли маленький графин водки, стопки и закуски. Камердинер поставил поднос на стол и пододвинул к лежанке своего господина. Суворов, охая от боли, приподнялся на постели и пояснил мне:
– Хворь, проклятая, не дает ходить далеко, – а затем похлопал рядом с собой. – Давай, Витя, садись, у нас поэтов голодом не морят. Хоть ты и скользкий какой-то, с секретом посередине, но человек добронравный. Раздели со мной трапезу.
Я не заставил себя долго упрашивать. Не каждый день тебя кормит легендарный генералиссимус. Я уселся рядом и с удовольствием отведал, чего Бог послал на стол князя. Тем более, что из-за всех стрессов последнего дня я порядком проголодался.
Под конец завтрака, когда мы раздавили водку, я осторожно поинтересовался:
– Ваше сиятельство, что говорят доктора о вашем здоровье? Можно ли надеяться на скорое выздоровление?
Суворов сердито сверкнул глазами.
– Каркают, аки вороны, твои доктора. Горят мои ноги в «антоновом огне», а они умом разбежались, кто куда. Один одно талдычит, другое второе, третий вообще отрезать хочет. Это ж как я перед богатырями моими безногий-то появлюсь?
– Но «антонов огонь» и вправду опасная хворь, – возразил я. – Может, стоит…
Старичок бросил ложку в горшок, отпихнул поднос, чуть не опрокинув его. Кстати, несмотря на энтузиазм, я заметил, что ел он очень мало.
– Да ты совсем с ума слетел, Витя? Мои докторы – это баня, молитва, солнышко да свежий воздух! Никакие другие шарлатаны меня не поднимут на ноги. Царь обещался прислать лекаря, да что-то запамятовал.
Он сердито шевелил губами и хмурился, а я подумал, что гангрена или «антонов огонь», как ее тогда называли, и в наши дни требует особого ухода. Если затянуть лечение, дело плохо.
Только вот как обеспечить Суворову условия лечения двадцать первого века в начале девятнадцатого? Я не врач и против гангрены еще с деревни слышал народные средства лечения – ржаным хлебом или бараньей печенью. Может, попробовать их предложить, все равно ничего не теряем?
– Мне бы в чистое поле выехать на горячем коне, – с горечью сказал Суворов. – Подышать травкой, испить водицы. В Кобрино хочу, слышишь, Прохор?
– Дак я бы с радостью, – пробурчал камердинер. – Но царь-батюшка не изволит-ж разрешать.
– Это верно, опять ему камарилья в ухо влезла, – досадливо поморщился Суворов. – Запер меня в четырех стенах, как в гробу.
От этих слов повеяло безысходностью, будто бы в доме и в самом деле показался призрачный лик скорой смерти полководца. На миг наступило неловкое молчание, а затем внизу послышался шум и звуки громкого голоса.
– Вот и Митя вернулся, – тяжко вздохнул полководец. – Сейчас будет потчевать меня сонетами на закуску.
Он глянул на меня и спросил:
– Какие еще стихи знаешь, голубчик? Покажи Мите, пусть знает наших.
Я улыбнулся и кивнул, но в душе понимал, что в поэтическом батле, конечно же, потерплю позорное поражение. Ведь мне противостоял Дмитрий Хвостов, один из образованнейших людей эпохи. Впоследствии он будет знаком с тем же самым Пушкиным. Хоть современники и называли Хвостова типичнейшим образчиком графомана, на деле все обстояло не так просто. Один мой сокурсник по университету, эксперт по истории литературы, отзывался о Хвостове с уважением.
Мало того, что он трудился на поэтическом поприще, так еще и старался бескорыстно помочь коллегам по цеху. Его записки о литераторах первой половины 19 века и в наше время изучаются учеными и служат богатейшим источником информации. Короче говоря, даже с моими продвинутыми познаниями Пушкина и Лермонтова, мне пришлось бы сильно попотеть, чтобы превзойти Хвостова.
Вскоре дверь снова отворилась и громко сопя, в комнату вошел высокий, чуть тучный господин с тонкими чертами лица, длинным крючковатым носом и складками вокруг рта. В руке он держал листок бумаги, исписанный каракулями.
– Не могу ждать, ваше сиятельство! – провозгласил он. – Вы должны услышать это первым! Написал сегодня утром. Мои стихи, так сказать, с пылу с жару.
Суворов чуть слышно простонал, а Прохор стремглав бросился вон из комнаты. Я недоуменно смотрел на них, не понимая причины столь бурной реакции. Тем временем Хвостов поднял листок к лицу и с выражением прочитал:
– Две трапезы, – и добавил, поглядев на меня, но не обращая внимания на незнакомого человека. – Это название. Я долго ломал голову и оно пришло мне как раз во время обеда. Надо же, какая удача.
Он тряхнул согнутый лист, выпрямляя его в руке и начал декламировать: