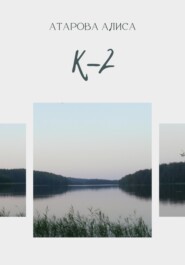По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Tempus
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Наверняка, сэр! – поддакнул кучер, поправляя полы сюртука и натягивая пониже шляпу с кокардой на свои непослушные вихры. Лошадь понеслась еще быстрее, фаэтон[4 - Стоит сразу уточнить, что скорее это был экипаж модели Виктория, но Мэтью просто величал экипаж то коляской, то фаэтоном, да и не стремился сильно разбираться в этом всем.] резко свернул на узкую улочку, чудом избежав ведра помоев, которое вылилось прямо за их спинами. Мистер Зонко вцепился в дверцу фаэтона, оглядываясь и хмурясь, но ничего не сказал. К сумасбродству Мэтью он давно привык, и наверное, именно за это его и держал (по крайней мере, так подозревал кучер). Фаэтон несся, только что не задевая дома, стоявшие по обе стороны переулка. Какая-то хозяйка, зевая, вышедшая на порог, отскочила с криком обратно внутрь своего дома, посылая им вслед проклятья.
– И вам того же, милая девушка! – крикнул ей молодой кучер, весело ухмыляясь, ведь милой ее можно было бы назвать только в темноте с закрытыми глазами.
Он натянул поводья, и лошадь вдруг вынырнула на оживленную улицу, два раза ударила копытами по мостовой и остановилась у ворот роскошного особняка.
– Прибыли, – будничным голосом произнес кучер, спрыгивая с колков. Он открыл перед мистером Зонко дверь, но тот не спешил вылезать, выглядя каким-то позеленевшим. – Вам нехорошо, сэр? – заботливо спросил он, протягивая ладонь.
– Укачало, – бесцветно произнес тот, хватаясь за протянутую руку. – Я же просил… Ты бы в следующий раз…
– Да, сэр? – с улыбкой спросил Мэтью, поворачиваясь к нему ухом. – Я вас не понял[5 - За столько лет Матвей в совершенстве овладел английским, но, когда ему не хочется ничего понимать, он начинает говорить на ломанном языке, делая вид, что ничего и не слышит.].
– Ой, – мистер Зонко отмахнулся от него и поплелся ко входу, с трудом перебирая ногами, как пьяный.
– Пока-пока! – помахал ему рукой парень, мужчина махнул ему в ответ на прощание и зашел внутрь.
Теперь, пожалуй, можно внимательнее присмотреться к скучающему кучеру. Этот звонкий акцент, эти проскальзывающиеся словечки, которые никто не понимал, потому что они были на русском языке, выдавали в нем Матвея, хотя и прошло целых восемь лет. И это действительно был он – подросший, возмужавший, но в нем все еще угадывался тот мальчик, появившийся в этом мире холодной зимой, – те же темные карие глаза, густые каштановые вьющиеся волосы, лежавшие в еще большем беспорядке, чем у его хозяина (тот хотя бы пытался их пригладить, а Матвей на это плевал с высокой колокольни), только черты лица мальчика загрубели, стали более взрослыми и точенными – исчез мягкий подбородок, за который его когда-то дразнил отец, появилась острота в чертах лица, только кадык на тонкой шее также сильно выделялся, как и раньше. Сразу становилось ясно, на кого в экипаже заглядывались проходящие мимо барышни – на хозяина или на кучера.
Как же Матвей оказался на службе у мистера Зонко? Как он оказался Мэтью, в конце концов? Как он жил все эти годы? Что вообще происходит и какой сейчас год?! Чтобы дорогой читатель не терялся в догадках, нам придется вернуться на восемь лет назад к тому времени, когда Матвея по чистой случайности занесло в новый снежный мир (хотя с этим утверждением, вероятно, придется поспорить).
Уже много позже того момента, когда его затащили внутрь незнакомого дома, спасая от обморожения, Матвей узнал, что он оказался не где-нибудь, а в викторианской Англии – самом романтизированном времени в истории Великобритании. Как не слишком прилежный ученик школы, он знал о том, что это за страна такая, подозревал и о том, что у них есть королева, Елизавета II (если посильнее напрячь память), однако ни о какой Виктории он никогда не слышал. Впрочем, единственное, что он тогда знал наверняка – романтикой в это время даже не пахло. Пахло, скорее, отбросами и немытым телом, но об этом чуть позже.
Ровно в тот момент, когда он оказался в незнакомом доме, Матвей не думал обо всех этих тривиальных вещах, потому что ему было так холодно, что эта мысль затмевала все удивление от странной обстановки внутри дома, отсутствии электричества и диковинной одежде жильцов. Мать говорила ему, что говорить с незнакомцами нельзя, да и брать у них ничего не следует, но когда ты сам оказался подобным незнакомцем, что же тебе делать?
Женщину, которая пустила его внутрь, как чуть позже узнал Матвей, звали Дороти Никсон. Это была очень суровая огромная женщина с обвисшим от постоянно нахмуренных бровей лицом и тонкими губами, которые она поджимала, когда была недовольна. То есть почти всегда. Видимо, поэтому ее губы были такими тонкими, считал Матвей. У нее были большие плечи, большая грудь и большие бедра, и конечно же, большие руки, почти мужские, с короткими ногтями и венами на тыльной стороне ладоней. Кожа на них была грубая от постоянной работы и подзатыльников. Поскольку Матвей на собственной шкуре вкусил, что такое подзатыльники миссис Никсон, он мог бы с уверенностью сказать, что сил она не жалела ни на то, ни другое. И вместе с этим большим телом и некрасивым лицом миссис Никсон досталось некрасивое, но очень большое сердце. Некрасивое потому, что она не любила проявлять свои чувства, а большое потому… Ну, здесь должно быть понятно, почему про человека говорят, что он обладает большим сердцем.
Итак, именно у такой женщины нашел приют мальчик. У нее было четверо детей и муж, который любил выпить, и в целом они были типичной семьей ниже среднего класса в викторианской Англии 1880-х годов из Ист-Энда, а значит, жили как придется, ели, что придется, и занимались, чем придется. В целом, они могли считаться вполне благополучными: мистер Никсон, когда не бывал пьян, водил омнибус, но поскольку он был пьян большую часть времени, за доходы в семье отвечала в основном миссис Никсон. Возможно, именно поэтому она стала таким очень закрытым и довольно грубым человеком.
Миссис Никсон была швеей. Она шила все, что получится, все, что могла, и для любого, кто готов был заплатить пару пенсов, шиллингов или иных монет (можно отдавать и картофелем, луком, лучше всего было отдавать птицей, мясом (в исключительным случаях) и тканями).
В семье Никсонов было четверо детей, как уже было сказано. И все они работали. Старшая – Мэри, ей тогда было уже 18 лет, она работала на улицах и приносила домой неплохой заработок, являясь иногда основным добытчиком в семье, когда у миссис Никсон не бывало заказов. Средняя – Лиззи, 11 лет, разносила кресс-салат и иногда газеты по домам, и даже иногда могла позволить себе ходить в школу, но не слишком часто. Следом шел Майкл, 10 лет от роду, он был мальчиком на побегушках для одного господина, а также помогал сестре с доставкой и матери с поиском клиентов. Самого младшего звали Джим, ему в пору знакомства с Матвеем было всего 6 лет, и он уже тоже работал – трубочистом, и его единственным желанием было никогда не взрослеть (когда Матвей спросил у него, почему о этого хочет, тот ответил, что если однажды не сможет пролезать в трубу, его выгонят с работы взашей. Матвей спросил, что такое «выгонят взашей», на что Джим мрачно плюнул на землю и показал кулак. Вопрос был закрыт).
Когда миссис Никсон впустила его в дом, она тем самым взяла себе на шею еще одного дармоеда (ее слова), однако по причине очень большого сердца (слова Лиззи) по-другому поступить она все равно не могла. После попадания в тепло Матвей сразу провалился в глубокий обморок, а затем еще три дня лежал в горячке, совершенно не понимая, где он находится, и пугая детей и взрослых своими русскими словами. Все поголовно (а в этом доме жило всего 5 семей с детьми) решили, что он мало того, что цыганенок, оставленный позади табора, так еще и полоумный – в странной одежде (которую миссис Никсон вскоре сожгла позади дома, чтобы не смущать людей), со странными привычками и повадками, и конечно, весь дом желал, чтобы Никсоны от него побыстрее избавились.
Но миссис Никсон не могла так поступить, особенно учитывая, что наступало Рождество, да мальчик был на удивление чистенький, словно упал с неба прямо перед домом Никсонов. Ну, где вы видели таких цыган? Будучи очень набожной, она посчитала, что выгонять его на улицу в Рождество – это безбожно, посему оставила его до тех пор, пока он а) не умрет; б) не оправится от болезни и не уйдет сам. Однако Матвей оказался предприимчивым малым – когда он очнулся и все вокруг оказалось не просто дурным сном, а затяжным кошмаром, и мальчик понял, что он все еще не понимает, что говорят другие, не знает, где он находится, а на улице бушует суровая зима, он сначала всеми силами имитировал ужасную простуду, а стоило ему окрепнуть, бросился помогать миссис Никсон по хозяйству, молча как рыба об лед при попытках его расспросить, откуда он взялся. Да и что он мог сказать?
Спустя две недели к нему привыкли и иначе как цыганенок его не называли, вот прозвище и закрепилось. Со взрослыми ему разговаривать было тяжело – те отмахивались, когда не понимали его, делая вид, что он-де всех достал со своей цыганщиной, поэтому он быстро бросил эти попытки и принялся общаться с детьми. Ведь у кого учиться языку, как не у детей? Уже совсем скоро он знал такие необходимые для выживания в Ист-Энде слова, как «чтоб ты сдох», «приемыш», «отвали, проклятый цыган» и «чего тебе от меня надо».
С его именем тоже вышла оплошность. Когда он впервые назвал свое имя, миссис Никсон ничего не расслышала, потому что он уж слишком сильно стучал зубами от холода. Этот вопрос отложили, пока он не поправится. И тогда она спросила снова:
– Как тебя зовут? – потому что устала звать его «эй, ты» и «мальчик».
Это предложение он понял и ответил:
– Матвей.
– Что ты там лапочешь? Я тебя не понимаю, – раздраженно нахмурилась миссис Никсон.
– Я вас не понимаю, но меня звать Матвей, – снова сказал тот.
– Матвэй? – попробовала повторить она.
– Нет, Матвей.
– Матьвэй.
– Нет, Матвей.
– Мэтью, да? – в конце концов спросила женщина.
С глубоким вздохом Матвей кивнул, поняв, что это единственная альтернатива, которая не будет резать ему слух, и мальчик остался в этом мире под именем Мэтью[6 - В силу привычки далее я буду называть его именно Мэтью, поскольку под этим именем я с ним познакомился, и так всем нам будет легче.]. А фамилию он выбрал много позже, когда понял, что даже безродным сиротам (именно так его позиционировала семья Никсонов) нужна фамилия в этом мире, а его собственная – Волгин – слишком сильно отдавала русским духом. Сначала он хотел взять фамилию «Никсон» – как у своей спасительницы и второй матери, в благодарность всему семейству, но те почему-то не слишком оценили благородный жест, назвав его дураком. В результате после долгих раздумий он стал зваться Мэтью Смит – разве не все ли англичане из фильмов, которые он смотрел, были Смитами? Лиззи, правда, все равно вновь назвала его дураком, который ничего лучше придумать не смог.
И конечно, все это время он не терял надежды вернуться домой. Когда он достаточно окреп, чтобы вставать с кровати, мальчик первым делом украдкой убежал на улицу (все тут же вздохнули с облегчением, поскольку только этого и ждали), но осмотрев весь пустырь вдоль и поперек – это был небольшой перекресток двух дорог, вокруг которых не было домов, – он понуро вернулся обратно. Сколько он не ощупывал воздух, проверяя каждый сантиметр пространства, и не рыл снег вокруг, ничто из этого не помогло ему открыть окно домой, поэтому он вернулся к Никсонам (те, как назло, забыли запереть дверь), и выгнать его оказалось невозможно. Мистер Никсон «ласково» называл его вместо цыганенка тараканом, которого никак не выжить из дома.
Своими частыми походами на тот перекресток Мэтью вскоре гордо заслужил звание местного сумасшедшего, и дети пару раз даже порывались забросать его камнями. Однако стоило один раз дать сдачи, как Мэтью тут же стал главарем этом банды мелочи и быстро нахватался у них еще более грубых кокни-словечек. Его словарный запас пополнялся изо дня в день, но совсем не теми словами английского языка, которые хотела бы слышать от него миссис Никсон.
В викторианской Англии больше и дольше всего мальчика поражали нищета, грязь и бесконечное уныние. Ему было сложно представить, что место, в котором он оказался, – это настоящее прошлое, а не затянувшийся кошмар, и еще сложнее было осознать, что прошлое может быть настолько ужасным. Несколько месяцев он просыпался каждое утро и щипал себя за руку, не в силах осознать, где находится. Только получив подзатыльник от миссис Никсон, заметившей синяки на руках, он прекратил это делать. Еще дольше он не мог понять, на кой черт он вообще сдался этому семейству (семейство тоже недоумевало в одинаковой степени), но раз уж сдался, то принялся помогать им всеми силами. Он стремился доказать им свою полезность в награду за приют, чтобы его не выгнали, как только потеплеет, а затем как-то так вышло, что семья привыкла к нему, да и жители дома почти перестали называть его цыганским отродьем, и настала весна. Мальчик он был смекалистый, смешливый, и даже после трех недель непрекращающихся резей в животе из-за одной и той же картошки да хлеба он свой оптимизм не растерял. А уж когда он предпринял попытки к коммуникации (это он так называл свои неумелые попытки заговорить на английском), дело стало еще хуже. Потому что его было не заткнуть.
– Уберите вашего цыгана! – умоляла миссис Колтер, вталкивая мальчонку обратно в комнату семьи Никсон. Женщина жила одна над ними (это была редкость), а потому дети часто пугали ее под дверью или устраивали проделки днем.
– Да чтоб тебя! – орал иногда мистер Никсон, замахиваясь на Мэтью кулаком, когда тот умыкал последние остатки алкоголя, чтобы показать фокус компании, но тот неизменно ускользал, получая лишь очередной подзатыльник от миссис Никсон. Иногда мальчику казалось, что у него вся голова состоит из шишек, набитых ее тяжелой рукой.
Время в трущобах (а ведь это были еще не самые трущобы – дети Никсонов водили его в самые ужасные места, кажется, намереваясь там оставить, но он неизменно следовал за ними обратно) текло невероятно быстро. Мэтью воровал газеты в квартале получше, где читал новости – уже скоро он стал расценивать свою жизнь, как невероятное приключение или компьютерную игру: он словно бы застрял между страницами истории. Он немного потерял ощущение реальности и чувствовал вседозволенность. Так продолжалось до тех пор, пока бродяги у пивной не поколотили его так, что он еле унес ноги. Тогда он осознал, что точек сохранения в этом мире нет, и никто не даст ему начать сначала.
Это не означало, что он не искал выход. Когда он вырос из кроссовок («Удивительная вещь!» – воскликнул однажды сапожник на углу, увидев мальчика в них), у него при себе осталась только одна вещь, тем или иным образом напоминавшая о будущем и говорившая, что это не он сам себе придумал жизнь в XXI веке – подвеска в виде змеи, кусающей свой хвост. Это был какой-то известный символ, он это знал и вскоре расспросил о его значении всех людей вокруг (как только смог формировать свои мысли более-менее ясно). Естественно, бедняки понятия не имели ни о каких символах, да и змей не очень любили. Они говорили, что в Библии змей – это искуситель, подлое создание. Матвей в Бога не слишком верил (вообще, тяжело верить в Бога, если ты родился в XXI веке), но в этом мире большая часть людей была очень набожной. Когда он попытался подвергнуть сомнению существование Бога, то участь его была намного горше Ницше – ему отвесили такую затрещину, что отбили всю охоту вести философские рассуждения о теологии. Не говорил он и о том, что он из будущего. Хотя поначалу мальчик честно пытался объяснить всем готовым его слушать, что он – пришелец из будущего, на него сначала смотрели снисходительно, затем как на сумасшедшего, а под конец – с легким испугом. Поскольку в то время еще была зима, он предпочел заткнуться и не продолжать эти беседы, поскольку иначе вести их ему пришлось бы с крысами на улице. Мэтью понимал, что крысы благодарными слушателями не будут. А малым он был сообразительным, поэтому взрослым докучать перестал, решив помалкивать, и легенда о том, как он оказался у Никсонов, как это всегда бывает с любой историей, сформировалась сама собой у каждого по отдельности. Но все сходились в одном – приемыш был хоть и болтливым, но забавным и безвредным. Хотя бы и цыганом. Дети его рассказы воспринимали как сказки, поэтому взрослые махнули рукой и забыли об этом.
Самое большое омерзение в Англии у Мэтью вызывали жуткая антисанитария и отсутствие каких-либо элементарных удобств, к которым привык каждый житель XXI века. Ходить грязным ему тоже претило, но когда он увидел, что за водой надо отстоять у колонки в очереди на морозе, потом дотащить ведра на своем горбе домой, а затем эта вода еще непременно кому-то понадобится из домашних – на стирку, готовку или просто попить, стремление мальчика мыться каждый день изрядно поутихло. Он и дома-то не слишком любил залезать в душ, как все мальчишки, а тут и подавно – очень скоро он оброс такой же грязью, как и остальные дети, и стал от них неотличим. Только его странные манеры, акцент и смешные предложения, которые он строил без знания английской грамматики, выдавали в нем чужака, но его выдумки и игры, которые он изобретал (хотя попросту «заимствовал» из своего времени), очень скоро расположили к нему всех детей в округе.
Но потом и ему пришлось отрабатывать свой хлеб. Ему было уже 13 лет, и по меркам викторианской Англии он мог считаться почти мужчиной, который был обязан помогать семье деньгами. Мэтью в жизни никогда не работал и не знал, что кроме школы есть еще такие вещи, как бегать туда-сюда по делам, помогать взрослым, красть у взрослых, а также обманывать взрослых, когда тебе это нужно. Однако большой доход мелкое воровство не давало, да и было сопряжено с некоторыми трудностями (владельцы кошельков не слишком горели желанием с ними расставаться). Поэтому мальчик вызвался помогать мистеру Никсону на омнибусе, и очень вскоре на него стали полагаться больше, чем на самого мужчину, который мог проспать, пропить или попросту свалиться пьяным с повозки. Но на жалованье мальчика довольно долго не брали – пока ему не исполнилось 15 лет, и он достаточно не подрос, чтобы уметь самостоятельно удержать лошадь. С лошадьми он общий язык нашел даже слишком быстро для мальчика из будущего. Иногда он ходил в школу при церкви вместе с Лиззи, но программа казалась ему невероятно отсталой, да и английский он гораздо быстрее изучал на улицах, чем по Библии.
Словом, быть подростком в Англии XIX века и быть подростком России XXI века – эти две непохожие жизни хоть и не скоро, но впрочем, все равно довольно быстро срослись в единое целое. Чем старше мальчик становился, тем чаще ловил себя на мысли, что начинает забывать родной язык, поэтому завел себе привычку (совершенно дурную по мнению Никсонов) вставлять в разговоры с другими то одно, то другое непонятное для них русское словечко.
И при всем при этом он ни на секунду не забывал о доме. Единственная связь с домом – серебряное змеиное кольцо – навсегда поселилось на шнурке у него на груди, и никто, ни одна живая душа не могли у него его отнять. Однажды мистер Никсон хотел пропить серебряную вещицу, считая, что так вполне можно компенсировать все то, что Мэтью наел в их доме, но мальчик вцепился в кольцо мертвой хваткой и не отпускал, брыкаясь и кусаясь (он тогда не слишком хорошо говорил и потому не мог выразить словами, впрочем, его действия говорили сами за себя). Мужчине пришлось с руганью оставить его в покое, но после этого никто не осмеливался покушаться на подвеску.
Это кольцо было довольно большим по размеру, оно с трудом умещалось целиком в детской руке. Когда он только попал в этот мир, мальчик постоянно вертел, крутил, сжимал ее, шептал подвеске слова, пытаясь на манер Али-бабы открыть «пещеру» в тайное место, он выходил к месту, откуда прибыл и вставал в позы рейнджера, джедая, супермена и во все ему известные, но ничего не помогало: окно, казалось, закрылось навсегда. Он пробовал нагревать и, напротив, охлаждать змею, пробовал шипеть на нее, подражая Гарри Поттеру, в сердцах бросал ее на землю и топтал, а потом в порыве гнева и вовсе порывался выкинуть в сточную канаву, но каждый раз смиренно убирал обратно за пазуху. Словом, он сделал все, что мог придумать, с подвеской, а когда это не помогло – продел сквозь кольцо шнурок и стал носить на шее в напоминание самому себе, что у него есть дом где-то спустя 170 лет.
Он бы никогда и не подумал, что будет так скучать по дому, да и могут ли мальчишки в его возрасте серьезно задумываться на эти темы? Но тем не менее он скучал: по маме, по родному двору и футбольному полю, даже по школе и – о, боже! – глупом Никите.
Первоначальный шок от викторианской Англии (совсем не похожей на туманный Альбион Шерлока Холмса, который он обожал по книгам) проходил долго, но и он в коне концов прошел, оставив после себя легкое разочарование и желание выжить любой ценой. Жить-то как-то дальше надо? Ко всему-то подлец-человек привыкает, вот и он в конце концов тоже привык.
Итак, 6 лет спустя по рекомендации союза кучеров, где он околачивался все это время, а потом и вовсе работал, его пристроили в хороший и довольно богатый дом мистера Зонко, который держал прислугу и жил недалеко от Ковент-Гардена, что было с одной стороны чрезвычайно удобно (близость рынка и всевозможных таверн и магазинов), а с другой – довольно эксцентрично (мало кто хотел селиться так близко от квартала красных фонарей). Впрочем, это как нельзя кстати укладывалось в образ самого Роберта Зонко – от его странной зарубежной фамилии, доставшейся от деда-колониста из Испании, до любви ко всяким странным безделушкам и людям. Возможно, именно поэтому он с такой охотой нанял Мэтью.
Юноша долго не мог понять, где же он слышал эту фамилию, а потом наконец вспомнил – все в том же Гарри Поттере, так назывался магазин близнецов Уизли. Вообще сага о мальчике, который выжил, очень ему нравилась, но, к сожалению, в конце XIX века ее еще, конечно, не написали, так что все истории теперь жили только в его голове. Фамилия Зонко не слишком соответствовала его работодателю, вернее сказать, юноша представлял бы этого человека иначе, если бы ему назвали фамилию. Мистер Зонко не был склонен к проделкам и шуткам, он был все-таки довольно серьезным мужчиной, который имел какую-то должность в парламенте и связи со всеми в Лондоне.
Как можно отметить, поскольку книги Мэтью в детстве выбирал соответствующие, на месте его прежних знакомцев никто бы не удивился, узнав, что того занесло в Англию. Впрочем, от веры в волшебство и гениальных сыщиков мало что осталось через 8 лет, зато он сам стал первоклассным жуликом.
В те времена чтобы выжить, если ты бедняк без роду и племени (а в случае Мэтью – даже без «прошлого»), да к тому же приблудный сирота, волей-неволей приходилось идти на кражу. И Мэтью немало в этом преуспел – срезать на бегу чужие кошельки в толпе на Ковент-Гарден или выпрашивать монетку своей умильной моськой у какой-нибудь усталой проститутки – с подобным мастерством мальчик ознакомился довольно быстро. Его моральные устои от этого ничуть не страдали, ум мальчишки действовал очень гибко – ведь, допустим, если он умрет, кто же отправится домой к его родителям в Россию? Получается нехорошо. А тому толстосуму лишняя монета карман точно жмет.
Миссис Никсон воровства не одобряла, зато одобрял мистер Никсон. Девочки почти никогда не крали, а вот мальчишки этим промышляли часто. У них была целая команда голодранцев – с подачи Мэтью они называли себя бандой Оливера Твиста. За хороший улов порой можно было получить от мистера Никсона и дружеское похлопывание по голове. Несмотря на это, в первые годы своего пребывания в Англии мальчик все равно боролся с собой, когда разговор заходил о воровстве. Ведь его учили не брать чужое ни под каким предлогом. Однако оказалось, что голодать ему не нравилось намного больше. А на один худой кошелек семья могла жить неделю, или же два дня мог пить мистер Никсон. Еще неизвестно, что из этого было лучше, ведь когда мужчины не бывало дома, там царил мир и покой, а уж кому это не понравится – много лучше, чем громкий храп и ругательства.