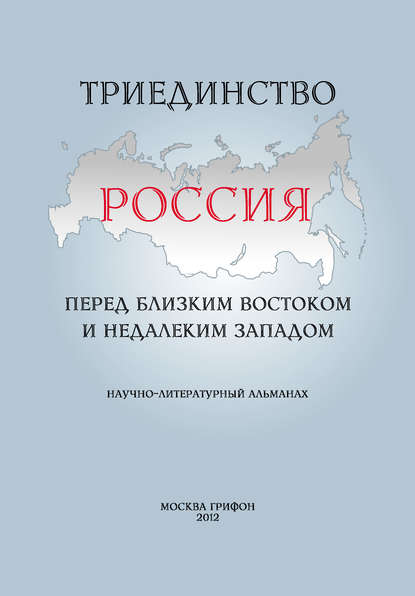По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Триединство. Россия перед близким Востоком и недалеким Западом. Научно-литературный альманах. Выпуск 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гоголь называл литературу «незримой ступенью к христианству». Хорошо бы так относились к ней и мы. Мы устали от погружения на дно зла. Нам, как дыхания, не хватает радости и любви. Для Гоголя слова о «незримой ступени» были не метафора и не афоризм. Он жил и писал, не отделяя свою жизнь от своей веры. И сегодня он дает нам понять, что тот, кто считает, что идеи – одно, а жизнь – другое, ошибается.
А теперь – о смехе Гоголя, которым одарил его Господь. Об этом смехе говорят, что он бичует, казнит, чуть ли не пригвождает к позорному столбу. Меж тем спасительная сила его состоит в том, что даже когда Гоголь касается таких персонажей, как городничий или Держиморда, в его смехе нет злого веселья, а есть мягкость. Его юмор (а юмор в переводе с греческого – «влага») смягчает, как кажется, самые суровые намеки, увлекая к жалости, а не к наказанию.
Человеческое, в его смехе, как говорил сам Гоголь, – слышится везде.
«Где смех души, – повторял он, – там и ангел на устах». О какой же расправе может идти речь, когда рядом стоит ангел?
Клеймит ли смех Гоголя Чичикова и Хлестакова или несчастного чиновника, вообразившего себя «испанским королем»?
Хлестаков в «Ревизоре» – не человек с двойным дном, не дитя хитрого умысла, а просто дитя, которому выпал, быть может, единственный миг удачи. Его принимают с лаской, ему дают взаймы, дамы ждут от него комплиментов. О чем еще может мечтать молодой человек, которому двадцать один год?
На какое-то мгновение он вдруг замирает и почти шепчет самому себе: «Мне нигде не было такого хорошего приема». Да и не будет больше никогда. Потому что впереди ждет батюшка, который может выпороть за то, что растратил родительские денежки, а по возвращении в Петербург – закопченный четвертый этаж и обеды «за счет аглицкого короля».
«Хороший прием» помогает Хлестакову развернуться, раскрыться. Свобода быть тем, кто он есть, выводит наружу его талант. Это поэтический талант фантазии, сочинительства, если хотите, вранья. Недаром тертые калачи из уездного городка бесповоротно верят ему, верят, что графы и князья, как шмели, «жужжат» у него в передней, пока он одевается, что не сегодня завтра сделается управляющим департаментом, фельдмаршалом, а то и грозой Государственного совета.
Талант, талант!
Смеешься над этим мальчишкой, и жаль его. Только раз улыбнулась ему судьба, мелькнул этот счастливый миг и улетел, как улетает его тройка в конце пьесы. «Эх, залетные!» – и слышится в этом крике ямщика и удаль, и риск, и голос родного раздолья.
А Чичиков? Плут из плутов? Скупщик «мертвых душ», преступающий закон?
Да. Но и сирота, росший без матери. Жизнь с детства глянула на него «сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко». Жестокий отец крутил сыну ухо, вел неправую тяжбу с соседями, и развратил отданную ему на воспитание сиротку (сюжет, подаренный Гоголем Достоевскому).
Как выбиться? Как приобрести имя и достаток? Прямой дорогой не возьмешь, нужны дороги окольные. И начинаются аферы на таможне, аферы при возведении храма Христа Спасителя, когда сам храм не вырастает и на этаж, а у членов комиссии по строительству, в которую входит Чичиков, в разных концах Москвы поднялись каменные дома гражданской архитектуры.
И, наконец, история с «мертвыми душами».
Цепь авантюр, которые давно бы могли сделать героя Гоголя обладателем миллионов. Но – не сделали. Отчего? Почему этот ловкий, казалось бы, мошенник все время проваливается?
Потому что Чичиков плут чисто русский, плут, плут-романтик и плут-мечтатель. Разве мог бы закоренелый злодей проболтаться Ноздреву о своих покупках? Разве мог бы он по пьяному делу поссориться с подельником, хотя речь шла всего лишь о том, что один из них назвал другого «поповичем»? Правда, как замечает Гоголь, за ссорой стояла одна ядреная, как репа, бабенка, доставшаяся между тем какому-то штабс-капитану Шишмареву, но один написал на другого донос, друзья чуть не пошли под суд, а их кошельки опустели.
Нет, Чичиков не инфернальный злодей, который по трупам пойдет, чтобы своего добиться.
Он – комическое лицо. И у него, как замечает автор, «незащищенное сердце». Кстати и сам Гоголь так однажды сказал о себе.
Во втором томе «Мертвых душ», когда его герой решается на очередной обман (подделывает завещание старухи-миллионшицы), то вновь терпит фиаско. Его бросают в тюрьму, где он рвет на себе волосы и новенький фрак наваринского дыма с пламенем, а потом приводят к генерал-губернатору, готовому отправить Павла Ивановича на каторгу. И тут Чичиков падает в ноги начальнику губернии и произносит вонзающиеся в душу слова: «Я человек, ваше сиятельство».
Это признание совершенно иным светом освещает «подлеца» Чичикова. Дмитрий Мережковский уверял нас, что Чичиков – черт, как черт и Хлестаков. Но может ли черт страдать? Или каяться?
Перед нами человек, а не посланец ада.
Русская литература, между прочим, не так уж богата злодеями. Необратимых злодеев в ней нет. Может, только в романах Достоевского они являются, но это, скорей, злодейские идеи, одетые в людское платье. Укажите в нашей словесности хоть одно лицо, которое сравнялось бы с Яго Шекспира?
Их нет.
По существу, то же самое признали английские писатели в своем приветствии к столетию со дня рождения Гоголя. «Мы чествуем его, – писали они, – как… основателя всего того, что заключается в словах “русская литература”. Эта литература сослужила великую службу России и оказала могучее воздействие на духовный мир всех культурных народов… Более всего нас поражает в русской литературе то необычайное сочувствие ко всему, что страдает… к людям, души которых живы… И это особенное сочувствие, проникающее собою все… есть чувство кровного родства людей, которое держит тесно вместе членов семьи, равно в несчастий, как и в счастии; оно есть чувство истинного братства, которое объединяет все разнородное человечество».
В нашем народе всегда жило чувство жалости к падшему, оступившемуся, нарушившему закон – каторжникам несли хлеб и одежду. Может, потому, что верили: эта забота возродит в тех желание спастись.
Вот почему мы любим гоголевскую «Шинель». Там есть это сердечное движение в сторону переписчика бумаг, принадлежащего, как говорит Гоголь, к «осадку человечества».
В повести есть сцена, где сослуживцы сыплют на голову Акакию Акакиевичу бумажки и называют их «снегом». Что они слышат в ответ? «Проникающие слова: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?”» – ив этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой».
С этого возгласа христианской души начинается крестный ход русской литературы к Богу.
Что бы мы ни читали у Гоголя, мы всегда чувствуем, что сердце автора бьется в такт сердцу его героев, что автор тут, с ними, что жизнь его неотрывна от их жизни и пути их, как неэвклидовы прямые, пересекаются.
Что общего, скажите вы, между гением поэзии и скупщиком «мертвых душ»? Или Гоголем и Собакевичем? При всей неприглядности фамилии последнего, у того тоже есть душа, хотя запрятана она далеко-далеко. Этот «медведь» говорит с печалью: «А что моя жизнь? Да как-то так все… Пятый десяток живу и ни разу не болел. Придется за это ответить».
И Собакевич думает о том, что когда-нибудь предстанет перед высшим судом.
Самодовольство, мизантропия (мы помним раздаваемые им характеристики: весь город мошенники: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет) сменяются тоской, задевающей за живое каждого смертного.
К тому же у Собакевича в деревне избы крепкие и мужики как строевой лес. Чичиков, сгоряча прозвавший его «кулаком», поправляет себя: «Эх, если б все кулаки!»
Выступавший на торжествах по случаю столетия Гоголя гость из Германии профессор Брант сказал: «Я был принят в Москве столь же пышно, как г. Хлестаков в качестве ревизора, и если московские купцы не подносили мне подарков вроде балыков и т.п., чего я не взял бы, я получил более драгоценный подарок. Я получил уверенность в могучем движении умов, которым одушевлен русский народ.
На Западе люди, которые не знают мчащуюся тройку, олицетворяющую у Гоголя Россию, говорят, что у нее ямщик – сумасшедший, не считающийся с ухабами, от которых вот-вот опрокинется экипаж. Я же знаю, что он не опрокинется».
Профессор Брант, судя по всему, имел в виду эпизод из «Мертвых душ», когда подвыпивший Селифан, так неловко развернул бричку, что Чичиков выпал из нее в грязь. Но затем, попавши в дом
Коробочки, был вымыт, его белье отстирано, выглажено и засияло белизной, после чего Павел Иванович благополучно продолжил свое путешествие.
Тройка опрокинулась, но вновь встала на колеса.
Сто лет минуло, изменился мир, изменилась, понеся невиданные потери, Россия.
Но можно ли сказать, что на облучке ее тройки восседает сумасшедший ямщик? Сумасшествие сегодня пришло с другой стороны, с другого конца света, и если мир содрогнулся, впав в оцепенение финансового коллапса, то не из-за России.
Сатира, сатира, сатира! – гремит в воздухе, когда произносят имя Гоголя.
А знаем ли мы, что означает это слово? Перевод с латинского: «блюдо с разными плодами, ежегодно подносимое богам; десерт, смесь…» A «satur» по латыни «сытый».
Нынешние мастера этого жанра, лелеемые СМИ и властью (чего в истории русской литературы никогда не было), вполне соответствуют этому понятию: изделия их вполне можно подавать на десерт. Эти ювеналы (от сатир подлинного Ювенала трепетали римская знать и римская интеллигенция) напоминают мне светскую даму из «Театрального разъезда» и ее вопрос: «Скажите, отчего у нас в России все еще так тривиально?».
Ничего не остается, как закусывать этой сатирой очередной обед.
Постперестроечная культура (дитя небезызвестной «культурной революции») как-то тушуется перед лицом великого прошлого, съеживается, катастрофически уменьшается в размерах и в конце концов испаряется, оставляя после себя серный дым.
Хотелось бы развеять еще одно заблуждение – общее заблуждение насчет второго тома «Мертвых душ». Да, этот том сгорел в огне, но несколько глав, оставшихся от него, которые можно считать черновыми, остались. По ним можно составить картину того, чем бы был второй том.
Было ли это собрание ходульных героев, скучного проповедничества и неисполнимых утопий? Был ли это провал Гоголя, свидетельство смерти его гения? Не засохла ли окончательно его художническая кисть и, царапая, стала скрести по холсту?
Черт – вечный скептик, понуждающий так думать, – и здесь оказывается в дураках. В оставшихся главах вновь брызжет светлый смех, вновь искрится юмор Гоголя, взмывает над русским простором его лирическая сила и слышится прозрение грядущих угроз века.
Пример первый. Глава о полковнике Кошкареве. Опять смешная фамилия (как всегда у Гоголя), но отнюдь не смешная история. Побывав со своим полком в Европе (1814 год), полковник поразился тамошним порядкам и решил устроить Германию у себя в деревне.
Кошкарев, или «Дон-Кишот просвещения», как называет один из героев второго тома, принялся реформировать русскую жизнь путем постановки ее с ног на голову. Чичиков, попавший к нему в гости, лишь удивляется: «Вся деревня была в разброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу, бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома вроде присутственных мест. На одном было написано “Депо земледельческих орудий”, на другом – “Главная счетная экспедиция”, на третьем – “Комитет сельских дел”; “Школа нормального просвещения поселян”…»