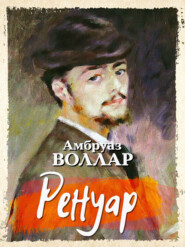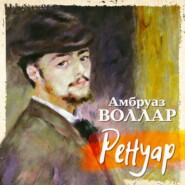По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сезанн
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сезанн продолжал: – Золя заканчивал свое письмо настоятельным приглашением приехать в Париж: “Нарождается новый Париж, – пояснял он мне, – наступает наше царство!”
Наступает наше царство! Я находил, что Золя несколько преувеличивает, по крайней мере поскольку дело касалось меня. Но тем не менее это побуждало меня вернуться в Париж. Слишком давно я не видал Лувра! Но только, вы понимаете, мосье Воллар, я в это время писал пейзаж, который мне не давался. Поэтому, желая проработать эскиз, я остался еще на некоторое время в Эксе.
Вскоре после своего возвращения в Париж (1872) Сезанн встретил доктора Гашэ, ярого приверженца новой живописи. Революционные настроения, которые этот превосходный человек, казалось, прощупал в искусстве Сезанна, привели его в восхищение, и он немедленно пригласил художника отправиться работать в Овер, где он сам практиковал.
Проникнувшись доверием к Сезанну, он признался ему, что тоже сделал попытку писать после того, как ему было дано увидеть светлую живопись. Сезанн в восторге от того, что он нашел столько готовности у одного “из братии”, последовал за ним в Овер, где и провел два года. Напрасно его родители делали усиленные попытки заставить сына вернуться под их крыло. Юный художник оставался глух к их призывам из-за множества причин, часть которых изложена в следующем отрывке из его письма:
“Дело в том, что когда я нахожусь в Эксе, я не чувствую себя свободным; для того, чтобы возвратиться в Париж, я должен выдержать целую баталию, и хотя ваше сопротивление и не носит вполне безусловного характера, но на меня действует удручающим образом то противодействие, которое я ощущаю с вашей стороны. Я бы очень хотел, чтобы на мою свободу действий не налагали пут, и тогда бы я с особенной радостью ускорил свой приезд к вам, потому что мне доставит огромное удовольствие писать на Юге, где такие благодарные пейзажи и где я мог бы делать этюды, над которыми мне интересно работать…”
Писсарро, который также работал в Овере, убеждал Сезанна не поддаваться влиянию мэтров. Под впечатлением советов своего друга, но не без насилия над собой Сезанн решил обуздать свой романтический дух; и вот тогда-то в нем действительно началась борьба между двумя противоположными тенденциями.[9 - Я не упомянул о картинах, написанных в промежутках с 1869 по 1873 год. Тут следует назвать: «Искушение св. Антония», 1870 г., «Сцена под открытым небом», где художник изобразил самого себя в человеке, растянувшемся на земле, 1870, «Прогулка», 1871, «Красные крыши», 1869, «Современная Олимпия», 1872, «Человек в соломенной шляпе», 1872, «Дом повешенного», 1873, «Хижина среди деревьев», 1873 и «Искушение св. Антония», 1873 г. (Прим. автора)]После войны кафе Гербуа было заброшено. Его прежние завсегдатаи стали собираться в “Новых Афинах”. Сезанн говорил мне как-то о виденной им там картине Форена, еще совсем юного Форена: “Молокосос, он уже умел набросать складку одежды!”
В “Новых Афинах”, точно так же как раньше в кафе Гербуа, доминирующей фигурой был Мане. В 1870 году Фантен-Латур в своей знаменитой картине изобразил Мане, сидящего за мольбертом в окружении нескольких завсегдатаев кафе Гербуа. Мане на этой картине производит впечатление мэтра, вокруг которого теснятся ученики. Один только Сезанн продолжал относится с недоверием к необыкновенной легкости письма автора “Олимпии”.
” Впрочем, красивое пятно!” – заявлял он, говоря об этой картине, которой, как известно, он хотел противопоставить новую “Олимпию”, более “современную” по своему духу. Мане, тот без всяких обиняков высказывался об авторе “Полдня в Неаполе”; он говорил Гильмэ: “Как можешь ты любить грязную живопись?”
Я спрашивал художников, еще оставшихся в живых от той эпохи, чем объясняется, что Мане считали главой школы даже тогда, когда он копировал испанцев, даже тогда, когда он оставил свой великолепный черный цвет, чтобы писать импрессионистически вслед за Моне. “Это объясняется, – получил я ответ, – тем, что ремесло мало значит в искусстве. Мане стал подлинным провозвестником благодаря тому, что в эпоху, когда официальное искусство представляло собой одну напыщенность и условность, он внес простую формулу. Вы знаете, слова Домье: “Я не безусловный поклонник живописи Мане; но я нахожу в ней огромное достоинство: она возвращает нас к изображениям на игральных картах”.
То, что Сезанн говорил о Мане, всегда носило шуточный характер. Однажды, когда я случайно встретил его в Люксембургском музее перед “Олимпией”, я понадеялся, что он откровенно выскажется о своем “собрате”. Сезанна сопровождал Гильмэ.
– Мой друг Гильмэ, – сказал мне Сезанн, – пожелал, чтобы я снова посмотрел “Олимпию”.
Я сообщил Сезанну, что идут переговоры о передаче этой картины в Лувр. При слове “Лувр” Сезанн перебил:
– Послушайте-ка меня, мосье Воллар!..
Но тут его внимание внезапно было привлечено жестом человека, выходившего из зала и сделавшего дружеское движение рукой по направлению к “Паркетчикам” Гюстава Кайботта. Сезанн разразился смехом:
– Каролюс!..Он видит, что он влопался с Веласкесом!..
Тот, кто хочет заниматься искусством, должен следовать Бэкону. Бэкон определил, что такое художник: Homo additus naturae[10 - Человек, прибавленный к природе.]. Бэкон очень силен! Но скажите, мосье Воллар, ведь, говоря о природе, этот философ не предвидел ни нашей школы пленэристов, ни этого другого, последовавшего вслед за ней бедствия: комнатного пленэра!..
Двое посетителей остановились перед пейзажами Сезанна, повешенными несколько дальше. Я обратил на них внимание мэтра. Он приблизился к картинам и бросил на них взгляд:
– Понимаете, мосье Воллар; я многому научился, когда писал ваш портрет…[11 - См. Главу VIII. (Прим. автора)]И все-таки мои картины помещают теперь в рамы!..
Возвращаясь к Каролюсу Дюрану, приверженность которого к импрессионизму являлась для Сезанна неисчерпаемым источником размышлений и комментариев, он заметил:
– Ай да молодчик! Он заехал ногой в зад Академии художеств… Скажите, мосье Воллар, быть может он больше не находил покупателей, бедняга?
Гильмэ. – Подумать только, что былой успех Каролюса Дюрана вызывал зависть даже у Мане! Однажды Астрюк взял его врасплох: “Почему, Мане, ты так суров к своим собратьям?” – “Ах, мой милый, если бы я зарабатывал всего сто тысяч франков в год, как Каролюс, я бы у всех находил гений, не исключая тебя и даже Бодри!”
Я. – А эти слова, которые он сказал Орелиену Шолль, хвалившемуся своим влиянием в редакции “Фигаро”: “Ладно, устройте, чтобы меня помянули в числе покойников!”
Сезанн. – Послушайте, мосье Воллар, этот парижский дух меня… Простите. Я ведь только художник… Мне очень улыбалась мысль заставить позировать обнаженных женщин на берегу Арка…[12 - Река в Эксе, в Провансе. (Прим. автора)]Но, понимаете, женщины – это телки или хитрюги, они хотели поймать меня на удочку. Жизнь – это страшная вещь!
Гильмэ (указывая на “Олимпию”) – Но Виктория, позировавшая для этой картины, какая это была красивая девушка! И такая забавная! Однажды она пришла к Мане: “Слушай, Мане, я знаю одно очаровательное юное существо: дочь одного полковника. Ты должен с нее что-нибудь написать, так как бедняжка сидит без гроша. Только видишь ли, она получила воспитание в монастыре, она совсем не знает жизни, ты должен с ней обращаться, как с дамой общества, и не смей говорить в ее присутствии никаких пакостей!”
Мане обещал быть воплощенной благопристойностью. На следующий день Виктория является вместе с дочерью полковника: “Ну-ка, красотка, покажи мосье свой товар!”
Сезанн по-видимому не находил никакого удовольствия в этой забавной истории. Он расстался с нами с озабоченным видом. Несомненно, его преследовала мысль о том, что женщины – “это телки и хитрюги”.
IV. Выставки импрессионистов
В 1874 году Сезанн вместе с Писсарро, Гильомэном, Ренуаром, Моне, Бертой Моризо, Дега, Бракемоном, де-Ниттис, Брандоном, Будэном, Кальсом, Г. Колэном, Латушем, Лепином, Руаром и несколькими другими художниками, являющимися в той или иной степени “новаторами”, – в общем в количестве тридцати человек, – участвовал в выставке “Анонимного общества художников живописцев, скульпторов и граверов”, у Надар, бульвар Капуцинов, 35.
Эта выставка имела такой же скандальный успех, как и “Салон отверженных”. Но сверх всего у публики было здесь и еще одно основание для недовольства. В то время, как на выставку “Салона отверженных” ходили даром, в виде дополнения к официальному салону, – для того, чтобы посмотреть “импрессионистов”, приходилось раскошеливаться. “Импрессионисты” – таково было имя, которым невольно окрестила публика этих живописцев при виде помещенной на выставке картины Моне, называвшейся “Impression” (“Впечатление”).
Сезанн сверх ожидания нашел покупателя для одной из своих картин, экспонированных на этой выставке. “Дом повешенного”, ныне находящийся в Лувре, был приобретен графом Дориа, который уже раньше обнаружил “свободу” своих взглядов, открыв Кальса и Гюстава Колэна. Стоит ли говорить, что “экстравагантная” покупка картины Сезанна дискредитировала этого любителя в глазах окружающих его “знатоков”?
Три года спустя, в 1877 году, Сезанн вновь выставляется вместе с некоторыми участниками той же группы в доме № 6 по улице Лепелетье, в арендуемом помещении. На этот раз по совету Ренуара манифестанты без колебания называют себя “импрессионистами”. Это было сделано не потому, чтобы они претендовали на новую живопись; они довольствовались тем, что честно говорили публике: “Вот живопись, которой вы не любите! Если вы войдете, тем хуже для вас, – денег не возвращают!” Но такова магия слов, что в конце концов стали верить, что новое слово означало новую школу. Это недоразумение до сих пор не рассеяно.
– Разве у нас не продолжают, – говорил мне по этому поводу Ренуар, – видеть лишь авторов теорий в художниках, чья единственная цель была писать, по примеру древних, радостными и светлыми красками!
Что до Сезанна, то стоит ли прибавлять, что его картины на этой выставке вызвали снова единодушное осуждение?! Сам Гюисманс, восхваляя подлинность искусства художника, говорил о “сногсшибательных нарушениях равновесия, о накренившихся набок, словно пьяных домах; об искривленных фруктах в посуде навеселе…”
Хотя в это время, как и в течение всей жизни Сезанна, живопись была его преобладающей страстью, но шедевры литературы далеко не оставляли его равнодушным. Он отдавал предпочтение Мольеру, Расину и Лафонтену; из современных ему писателей он очень высоко ставил Гонкуров, Бодлера, Теофиля Готье, Виктора Гюго, словом, всех тех, кто дает красочные образы.
В связи с поэмой, написанной Готье в честь Делакруа, он дошел до того, что сам сложил стихотворную строчку в честь поэта:
Готье, великий Готье, влиятельный критик!
Сезанн даже являлся одним из завсегдатаев салона Нины де-Виллар, столь радушной к поэтам того времени. В ее доме отсутствовала какая бы то ни было напыщенность; тому, кто приходил не пообедав, разогревали блюда, сдвигались за столом, чтобы дать ему место; наконец там всегда было что покурить. Именно здесь Сезанн познакомился с Кабанером, одним из своих ранних почитателей.
Кабанер был отличный малый, слегка поэт, слегка музыкант, слегка философ. Слишком много правды в том, что Фортуна ему не благоприятствовала; но он никому не завидовал- так сильна была его вера в свое музыкальное дарование. Его внутреннее убеждение состояло в том, что судьба в своей несправедливости сделает его неудачником. С полной готовностью он принимал свою участь. “Я – любил он повторять, – я войду в историю главным образом как философ”. Многие из его словечек передавались из уст в уста. “Мой отец, – говорил он, – был человеком типа Наполеона, только менее глупым…” В другой раз: “Я и не знал, что я так известен. Со мной здоровался вчера весь Париж”. Кабанер не прибавлял при этом, что он участвовал в похоронной процессии.
Во время осады Парижа при виде сыпавшихся градом снарядов Кабанер с любопытством спросил Коппэ:
– Откуда эти снаряды?
Коппэ, ошеломленный:
– Очевидно, это осаждающие, которые в нас стреляют.
Кабанер после некоторого молчания:
– Что, это все пруссаки?
Коппэ вне себя:
– А вы хотите, чтобы кто это был?
Кабанер:
– Не знаю…другие народности.
Не меньшей оригинальностью отличались его реплики, касавшиеся близкой ему области, – музыки. Когда пьеса Гуно, сыгранная им вслед за произведением своей собственной композиции, была встречена аплодисментами, он заметил: “Да, это две прекрасные вещи!” А на вопрос: “Можете ли вы передать тишину в музыке”, – Кабанер не задумываясь ответил: “Для этого мне понадобится содействие по крайней мере трех военных оркестров”.
Сезанн признавал за ним талант, как это явствует из письма, в котором он рекомендует музыканта своему другу Ру.[13 - «Мой дорогой соотечественник! Хотя наши дружеские отношения не были очень интенсивными в том смысле, что я не часто стучался в твою гостеприимную дверь, все же я без всяких колебаний обращаюсь к тебе сегодня. Я надеюсь, что ты охотно отделишь мою незначительную личность художника-импрессиониста от человека и что ты захочешь вспомнить обо мне только как о товарище. Я взываю не к автору «Тени и добычи», но к уроженцу Экса, под одним солнцем с которым я родился, и я беру на себя смелость направить к тебе моего выдающегося друга и музыканта Кабанера. Я прошу тебя отнестись благосклонно к его просьбе и вместе с тем я обращусь к тебе в случае надобности, когда солнце Салона взойдет для меня. В надежде, что моя просьба встретит хороший прием, прошу тебя принять выражение моей благодарности и братской симпатии. Жму твою руку. П. Сезанн»]