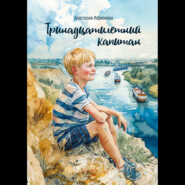По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нам счастье дано на двоих
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Товарищ, старший сержант! Вы живы?! Живы! Вставайте! Надо уходить!
Иван с усилием разлепляет опухшие веки и видит перед собой на коленях Лизу Похомову, девочку-санитарку.
– Иди… Лиза… – сухими спёкшимися губами шепчет он, – Я не смогу. Ранен тяжело… Не подняться… Иди…
– Товарищ старший сержант, вы можете повернуться на бок? – Лиза наклоняется над ним и заставляет его перекатиться на бок, а сама ложится на землю рядом.
– Лиза, ты что задумала? – слабо удивляется он, с трудом подчиняясь и не в силах сдержать стоны боли.
– Ещё немного, товарищ старший сержант… ещё немного. Вот так… – Лиза подползает под его бок, под него. Иван чувствует её тонкое худое тело под собой, под его залитой кровью одеждой. Её гимнастёрка мгновенно промокает в его крови, становится влажной. Девушка ложится на живот и требует, – А теперь переворачивайтесь на спину!
– Я же придавлю тебя… – изумляется Иван. Он ведь тяжелее её в три раза! И выше на две головы.
– Ложитесь, товарищ старший сержант. Я без вас не уйду! – упрямо возражает девушка.
Иван с трудом, зажимая рану в животе руками, переворачивается на спину, чувствуя под своим тяжёлым, от слабости обмякшим телом, хрупкое тело девушки, почти ребёнка. Да она даже пошевелиться не сможет под его весом! Однако Лиза, прикусив губу, делает рывок вперёд и начинает медленно ползти по сырой от грязи земле. Окровавленная её гимнастёрка мгновенно пропитывается грязной водой. Дыхание её становится сбивчивым, а затем шумным и рваным. «Девочка… бедная… как же так… ты же меня не дотащишь…», – думает он, но боль мешает, прерывает его мысли, притупляет другие чувства, парализует их.
Сколько они передвигались так мучительно медленно, с остановками, когда девочка останавливалась и пыталась отдышаться, набраться сил, – неизвестно. Время остановилось, прекратило свой бег. Иван слышал, как дыхание с протяжным сиплым свистом выходило из её груди. «Надорвётся…», – с тревогой думал он. Она с новым мучительным рывком начинала движение. И с каждой такой остановкой ей было всё сложнее двинуться снова, таща на себе непосильную ношу. Ладони и локти, от того что приходилось всё время опираться на них при движении, изодрались в кровь. И с каждым новым рывком содранная кожа начинала ещё больше кровоточить. Теперь Лизе приходилось, морщась от боли, передвигать руками.
Стало темнеть, резко похолодало, от болот потянуло холодом и сыростью. Где-то в тишине, разрываемой только стонами раненого и её собственными, тревожно прокричала птица. Иван чувствовал под собой движение хрупкого женского тела, чувствовал, как оно ослабевает, но не останавливается, медленно и упорно они продвигались вперёд. Мучительно медленно… Одежда Лизы стала тяжёлая от мокрой грязи. Кровь из наспех перевязанной раны уже не бежала, но мучительно жгло в нутре, так же мучительно тошнило. Казалось, они не доползут никогда…
И вот когда они уже почти миновали линию фронта, за которой стоял сан батальон, осталось только с полкилометра до леса, как в небе, в лиловом зареве, где заходило солнце, показались немецкие бомбардировщики. Они летели с нарастающим гулом, заслоняя и без того тусклый вечерний свет. Их отдалённый, но всё возрастающий вой, похожий на пронзительную сирену, от которой стынет кровь и перестаёт течь по жилам. Протяжно-свистящая сирена оглушала. Эта жуткая зловещая песня смерти специально придуманная фашистами для устрашения всего живого, что могло слышать и испытывать страх.
– Бросай меня, Лиза! Уходи! Ты успеешь добежать до леса! – кричит Иван, но девушка упрямо продолжает ползти. Иван кричит, насколько ему позволяет рана в животе, – Ты слышишь меня, дура?! Мать твою, Лиза!..
– Нет… – тихо, но с твёрдой решимостью произносит она. Он слышит её ответ и ещё больше приходит в отчаяние. Неимоверным усилием, не сдержав крик боли, Иван переворачивается на живот и подминает под себя девушку, полностью закрывая её своим телом, пряча под собой. Тревожный гул приближается, земля дрожит, отражая этот зловещий гул.
– Замри! Слышишь, замри! – кричит он ей, стараясь перекричать надвигающийся рёв юнкерсов. И сам закрывает глаза, стискивает зубы. Он надеется, что лежащий без движения в окровавленной одежде человек будет принят с высоты фашистскими лётчиками за убитого.
Гул приближался. Караван смерти быстро и неотвратимо надвигался. Иван, стараясь уберечь, заслонил своим телом девушку так, чтобы, когда начнут стрелять, осколки снарядов впивались в его тело, не в её, рвали живьём его плоть. Гул становился всё ближе, оглушал. Иван почувствовал, как Лиза под ним перестала дышать, даже её сердце остановилось, замерло в ожидании неотвратимого, неминуемого… Его сердце тоже замерло, тело стало каменным от нечеловеческого напряжения. Да разве можно приготовиться к смерти?! Когда тебе всего восемнадцать лет!
Тень от широких крыльев юнкерса упала на них, бомбардировщик с гулом, от которого застывает в ужасе всё живое, на бреющем полёте совсем низко, так что ветер с силой окатил холодной волной замеревших на земле людей, пролетел мимо. А за ним ещё один и ещё… Всего их было пять. И после каждого так всё леденело внутри, что, казалось, сердце остановится от неимоверного напряжения. И гул в ушах, теле… Хотелось стать невидимым, быть не здесь, не в этом страшном месте и не в это время… Так, лежащие на земле люди, умирали пять раз, после каждого пролетевшего огромного тяжёлого ревущего чудовища…
Наконец, зловещий гул стал удаляться за линию горизонта. Парень ещё долго, минут десять, лежал неподвижно, боясь даже вздохнуть, и девушка под ним тоже не дышала, не шевелилась. Наконец, начав чувствовать, что холод от грязной болотистой сырости проникает сквозь кожу, он приподнимается.
– Ушли… – шепчет Иван и смотрит в испуганные расширенные зрачки девушки, в её бледное лицо, покрытое липкой холодной испариной, – Испугалась? Не бойся, не вернутся… – он не успел договорить, теряя от боли сознание.
В себя Иван пришёл уже в полевом госпитале, в постели, под шерстяным одеялом. Его прооперировали, не дождавшись, когда он придёт в сознание. Врач, Марк Захарович, ещё не старый тучный мужчина с седыми волосами, наклонился к его постели.
– Як ты, хлопец? Оклемался? Ну, добре… Вижу, что оклемался, – добродушно произносит он.
– Девочка… Где она? – спёкшимися сухими губами произносит он.
Врач всё понял, похлопал ладонью по его руке и добродушно проворчал:
– Вот ты какой! Тебе чудом ногу спасли, без ампутации дело обошлось, а ты первым делом о девчонках думаешь! В тыл её отправили. Восемь часов тебя на себе по грязи волокла… Воспаление лёгких у неё сильное. Но ты не тревожься, – седовласый врач сжал руку Ивана, почувствовав, что ладонь парня задрожала, – Лизка девка хоть и щуплая, но стойкая. Она-то уж оклемается быстро.
– Адрес… Мне нужен её адрес, – упрямо произносит Иван.
– К своей сестре я её отправил. Дам я тебе адрес, не переживай, хлопец, – доктор вдруг хитро прищурился и с улыбкой спросил, – Хочешь лично ей спасибо сказать? Оно немудрено… Вот какого здорового детину на себе волокла.
– Хочу сказать спасибо, да, – с той же упрямой решимостью ответил Иван.
Ивана перевели в госпиталь в освобождённом от немцев городе. Ларису Нельскую назначили старшей медсестрой, ходила она всегда в военной форме, в юбке, ремнём затянув тонкую талию на гимнастёрке, тёмные густые волосы собраны в строгий, но замысловатый узел. Врачи и пациенты Ларису Ивановну (несмотря на юный возраст, всего двадцать лет, Нельскую звали по имени-отчеству) обожали, за глаза называли «богиней». Те, кто не лежащие, а могли вставать и передвигаться, дарили старшей медсестре букетики полевых цветов, которые она с холодной благосклонностью королевы принимала. Но никому предпочтения не отдавала. А когда Иван начал вставать и ходить после операции, как-то подошла к нему и говорит: «Завтра вечером танцы будут, пойдём?» «Да мне и надеть-то нечего…», – засмущался Иван. «Ничего найдём что-нибудь». И к вечеру принесли ему девчата-медсёстры рубашку, наспех сшитую из парашютной ткани хорошего немецкого качества. А сама Лариса пришла в тонком ситцевом платье в горошек, туфельках, белый платочек на плечи накинула. Красавица! Глаз не оторвать. И не отрывали. Всё мужское внимание ей одной досталось. Бойцы же, они изголодались по эмоциям, по обществу женщин. А тут женщина, да какая при этом красивая!
В бывшем здании театра, в котором ранее размещалось немецкое командование, зал просторный, гулкий. Установили патефон, красный уголок наспех оформили. Мужчин и парней, конечно, намного больше чем женщин. Да и женщин всего несколько девчат из медсанбата. И среди них Лариса ярче всех, к ней сразу же и начали проявлять внимание бойцы. Первыми её пытались на танец пригласить «летуны», так лётчиков называли. Они, как известно, самые отъявленные бабники, а танкисты прославились, где бы ни появлялись, хулиганством. Лариса сразу подошла к старшему лейтенанту (теперь уже старшему!) Ивану Покровскому, взяла его за руку, нежными тёплыми пальцами сжала его грубую ладонь и, смотря ему в глаза, сказала: « Ты меня, Ваня, никому здесь не отдавай. Только с тобой танцевать хочу». Так они вдвоём весь вечер и протанцевали танго Рио Риту, фокстрот, вальс. Благо, девчонки – медсестрички его накануне быстро обучили основным движениям в танцах. Иван чувствовал на себе весь вечер завистливые и сердитые взгляды бойцов. Он знал, каждый из них за Ларису в огонь и в ад пойдёт, не раздумывая, а досталась её благосклонность ему одному.
А через пару дней подошёл Иван к главврачу и просит: « Вы отпустите меня, Марк Захарыч, на фронт. Выздоровел я. Нечего мне, здоровенному детине, в тылу отсиживаться». В общем, выпросил у врача разрешение снова на фронт.
А после его полк перевели в Харьков, в Украину, а оттуда в Варшаву, в Берлин… На рейхстаге на стене свои имена оставили и надпись: «Слава тебе, Советская Отчизна! Твои сыны до Берлина дошли!» Вот так вот всю свою тоску и любовь по Родине в эту надпись вложили, а потом не удержались и приписали крепкий русский мат на гладкую стену Рейхстага. В этом тоже тоска по Родине…
Только к концу лета 45-го удалось Ивану вернуться на Родину и отыскать Лизу Пахомову, чтобы сделать её своей женой, нежно любимой на всю оставшуюся жизнь…
А Лариса? Его первая женщина… Та полная отчаянной страсти ночь забылась, покрылась плотным туманом небытия. Кто-то из однополчан говорил, что красавица Нельская после войны продолжила учиться, стала врачом, вышла замуж за гражданского – капитана пассажирского судна, родила дочек-близняшек и переехала с мужем в Новороссийск. Ей всегда хотелось жить вблизи у моря…
Ни на кого больше не смотрел Иван Фёдорович Подольский, только на Лизу. Сын, а потом и внук Серёжа внешне в отца пошли – широкоплечие, высокие, статные. А вот правнук Иван весь в прабабушку Лизу Петровну – такие же светлые волосы, пронзительные голубые глаза и та же готовность помочь, взять чужую боль на себя… Та же доброта и прямодушие. «Лиза, Лизонька, – часто любил обращаться Иван Фёдорович к своей покойной жене, – Правнук-то наш весь в тебя, твоя душа в нём, большая, тёплая…»
Может быть и были случаи, когда бойцы, вернувшиеся с войны, бросали своих полевых подруг и забывали о них, едва завидев на перроне встречающих их невест в шёлковых платьях в горошек, в ароматном облаке духов «Красная Москва», но Иван Фёдорович таких случаев не знал. Его однополчане фронтовых жён своих не бросали и не забывали! Да и как можно забыть зловещий рёв юнкерсов, под которым они с Лизой стали одним целым навсегда, на всю жизнь…
Повесть
Храни его, не меня!
Из письма Полины:
«И всё-таки я стала женой офицера и приехала в Германию. Наверно мне на роду было написано это, а от судьбы, как известно, не убежишь. Да я и не жалуюсь на судьбу! Но кто бы всё-таки из нас мог подумать тогда, что жизнь может быть такой прекрасной и удивительной!
Я стала настоящей немецкой фрау, научилась сносно говорить по-немецки (меня даже понимают, когда я заговариваю с кем-либо на улице), ношу платья по последней моде, туфельки на каблуках, сумочку, перчатки и шляпку! Как подумаю об этом, самой смешно! Но всё-таки, что и говорить, Берлин – очень красивый город, мне нравится его строгий стиль. Нравится гулять по саду Тиргартен и по Унтер-ден-Линден, где столько много душистых лип!
Но ничего не мило сердцу так, как наши леса Белоруссии! Очевидно, русский человек устроен так, что где бы то ни был, для него нет ничего дороже родных мест. Но тоска моя не безысходна, мы знаем, что вернёмся на Родину, как только того потребует долг.
Да, и я как- то упустила в письме самое главное. Я очень люблю своего мужа. Я счастлива, мама, как только может быть счастлива женщина, нежно и трепетно любимая своим мужем!
На этом я заканчиваю письмо. Скучаю по тебе, милая мама, скучаю по отцу. Люблю вас и ни на секунду не забываю.
Ваша дочь Полина. Берлин. 1946 г.»
Пролог. 1943 г. Осень
– Разрешите доложить, товарищ командир полка! – голос молодого лётчика звучит бодро, с гордостью от проделанной работы.
– Докладывай, – Григорий Васильевич Полетаев, ещё совсем молодой командир разведывательного отряда (всего двадцать пять лет), взял на себя командование полком после гибели своего командира.
– Летали к партизанскому отряду «Батьки Миная», сбросили провизию, тёплые вещи, боеприпасы, недели на две им хватит.
– Раненые у них есть? Больные? – уточняет командир.
– Нет.