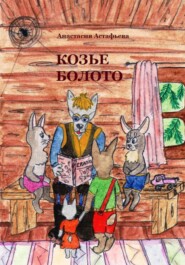По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Для особого случая
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Саня-Саня проснулся по привычке рано. Ещё рассвет не забрезжил в единственном окне его убогого жилища, которое он делил с двумя задумчивыми козами, патлатой собакой и одноглазым котом. Включив радиоприёмник и опустив кипятильник прямо в пол-литровую кружку с водой, раздетый до пояса Саня-Саня бодро вышел на улицу, где растёрся и умылся снегом и сделал несколько гимнастических упражнений. Затем он забрался на чердак своего домика-баньки, скинул оттуда на снег несколько охапок сена, спрыгнул следом и вернулся в помещение. Голодные козы выхватывали клоки сена прямо из рук, не дожидаясь, пока хозяин утрамбует его в кормушки.
Выдернув из розетки кипятильник, Саня-Саня выбрал из спитых и высушенных чайных пакетиков два, на его взгляд ещё достойных, и бросил их в кипяток вместе со щепоткой сухого зверобоя и горсткой ягод шиповника. Пока чудо-чай заваривался, он надоил от коз по стакану молока и тут же выпил «парнуху», оставив пару глотков орущему коту. Свернувшаяся калачиком собака недвижно следила за всеми приготовлениями сквозь пушистый хвост и молниеносно подскочила, когда в её сторону полетел кусок чёрного хлеба. Она проглотила его ещё на лету и тут же улеглась обратно, продолжая терпеливую слежку из засады.
Радио передавало последние новости. Прислушиваясь к нему, иногда излишне эмоционально комментируя высказывания дикторов, Саня-Саня неторопливо, с душой выпил бледный чай, аккуратно отрезая от буханки чёрствого хлеба и намазывая куски тонким слоем томатной пасты.
Закончив завтрак, он оделся, не без труда застегнув заезженную молнию на старой неопрятной куртке и напялив на голову засаленную шапку-петушок, взял привычный рюкзак и вышел из избушки.
Рассветно алели верхушки ольшаника, сползающего с холма в широкий овраг. Распахнутое в утреннем нежном томлении небо пахло мартовской свежестью, отдающей лёгкой ольховой горчинкой. Саня-Саня с наслаждением втянул воздух через ноздри, задержал его в груди и медленно, словно жалея, выдохнул.
Его участок – большой, но обезображенный корявым, сколоченным из обломков и гнилушек забором, заваленный разным хламом, с низкой почернелой баней посередине, окружённый со всех сторон добротными коттеджами дачников, вызывал раздражение, как порченый зуб в белоснежной ровной челюсти. И тем большее недоумение порождал у прохожих построенный на этом же участке, в дальнем углу его, под пушистыми дерзкими елями, красивый, обитый нежно-салатовым сайдингом дом. Почти все были уверены, что дом этот принадлежит некоей родне Сани-Сани. Что бросили те строение из-за причуд и неуживчивого характера родственника, постыдились жить рядом с «чокнутым профессором».
Саня-Саня когда-то действительно был если не профессором, то преподавателем на военной кафедре какого-то питерского университета. Звали его в ту пору Александром Александровичем, он имел семью, квартиру в центре города, машину, уважение и регалии. На пенсию вышел рано, по-военному, в одно мгновение всё бросил, уехал жить на дачу, и никто никогда не видел ни его жены, ни детей, при нём остался только старый ржавый «жигуль».
Впрочем, всю эту историю жизни «профессор» излагал сам, поэтому слушатели делили её и на два, и на три, а кто и вообще не верил ни единому слову, намекая на «справку в кармане». По первости местные мужики пытались задружиться с ним – предлагали выпить, поговорить за жизнь. Но Саня-Саня довольно резко отшивал таких друзей, поскольку сам не брал в рот ни капли. Несмотря на трезвый образ жизни, от одиночества ли, от неведомой никому тоски ли, от равнодушия ли к бытию, опускался он с каждым годом всё ниже и заметнее – почти не мылся, отчего вечно вонял козлятиной, ел всякую дрянь, учил местных баб кормить коров размоченными в кипятке картонными коробками, уверяя, что его козы очень даже любят такое пойло, особенно если коробки из-под печенья. В конце концов деревенское население махнуло на Саню-Саню рукой и стало относиться к нему, как и ко всем убогим, с терпеливым снисхождением. В их глазах он стал равен цыганам. И как-то сам собой к цыганам Саня-Саня и прибился.
Он подружился с Радой, с её мужиком. Тогда ещё детей у них было только трое. Любящий порассуждать и похвастать, как все ленивые люди, Радин муж быстро сошёлся с Саней-Саней на общих темах: политике и обороноспособности страны. Это была их любимая песня! Пока вечно беременная Рада обихаживала дом и детей, они сидели либо у печки, либо на завалинке – в зависимости от времени года, слушали радио и ругали правительство. Кричали, спорили, строили прогнозы, били кулаком по столу, снова ссорились и спорили.
Тем первым летом их дружбы Саня-Саня помогал им с сенокосом. Душистый пыльный зной, дымок костра, облепленный оводами конь, звон кос, цыганская скороговорка и детский смех бойких цыганят совершенно очаровали его. Загорелая семилетняя Алинка льнула к нему, как дочь, приносила воды в бутылке, отгоняла мошкару ивовой веточкой, щебетала что-то непонятное и радостное, выкатывала из углей печёную картошку, дула в её кратерно-парящий разлом и протягивала дяде Саше.
Всем гуртом они отдыхали в тени тёплых, дурманящих запахами подсохшей травы копён, а дети без устали бегали в ближний лес, таскали землянику и грибы-колосовики.
Что с ним тогда произошло? Как это всё само сложилось? Он вдруг затосковал по уюту, по семье, по человеческому теплу. И однажды брякнул Раде, что готов ждать Алинку хоть десять лет, но чтобы они непременно отдали её за него, когда придёт срок. Что готов помогать им деньгами, пока его будущая жена растёт. Что обязательно построит дом, в который войдёт Алина полноправной хозяйкой.
Для цыган это предложение не стало ничем сверхъестественным. Покумекав над своей выгодой, они ударили с Саней-Саней по рукам. Договор подкрепили денежно – выпросили у простофили деньги на содержание будущей жены все разом, сто тысяч. Да разве это много, ромалэ? По десять тысяч в год, меньше, чем по тысяче в месяц!
У Сани-Сани на тот момент были некоторые сбережения, и он без сожаления и без соображения, поверив в своё счастье, отдал им половину. И с этого дня жизнь запустила для него обратный отсчёт. Он не томился в ожидании, не торопил годы, не облизывался на Алинку, нет, ничего такого.
Он строил дом.
Оставшихся сбережений хватило, чтобы купить несвежий сруб пять на шесть и шиферу на крышу. Всё остальное делал сам, на свою пенсию. Каждая дощечка, каждый брусочек в будущем доме были любовно оглажены руками Сани-Сани. Несчётное количество раз сходили и вновь нарастали мозоли на его ладонях. Он мог целый день нежить одну доску, то топориком, то рубаночком, то наждачкой. Не терпел, если что-то выходило криво, щелясто. Отрывал, подгонял, заново приколачивал. Когда ставил стропила – один, всё один! – сорвался с верхотуры, ушибся, сломал ребро. Отлёживался недели две. И снова туда, в дом. Покрыл крышу, сложил печь, настелил полы, вставил окна, двери. Под конец даже взял кредит и обшил дом по-современному, сайдингом. Чтобы не хуже, чем у других!
Он не торопился, он жил этим изо дня в день все десять лет.
И вот Алине позавчера исполнилось семнадцать.
Дом был готов.
Саня-Саня ещё с вечера сложил в рюкзак полотенце, мыло, мочалку, новое бельё, носки. Решил там же, в райцентре, хорошенько отпарившись и помывшись в общественной бане, сходить в парикмахерскую, купить в магазине костюм с ботинками.
Давно он не засыпал в таком волнении.
И вот сейчас стоял у низеньких дверей своего нищего жилища, вдыхал полной грудью мартовский воздух молодой весны, и сам внутренне молодел, и чувствовал себя опьянённым каким-то свежим, словно первым любовным чувством.
До электрички ещё оставалось время. Саня-Саня поставил рюкзак прямо у порога своей избушки, брякнул ключами в кармане куртки и пошёл по хрустящему насту к новому дому. Он захотел взглянуть на него её глазами.
Когда отпирал замок, руки странно дрожали. Распахнул дверь – не скрипнули петли, шагнул внутрь – не дрогнули половицы. В доме светло, румяные солнечные лучики бьют сквозь окна, заливают широкое просторное нутро с большой побелённой печью посередине. Он не стал ставить перегородки. Пусть хозяйка сама решит, где у них будет кухня, где спальня, где прихожая. И, если она захочет, можно пристроить к дому веранду. И мебель они постепенно купят вместе, чтобы ей нравилось. А столы, стулья он сделает сам – добротные, крепкие, гладенькие, как её кожа… Она посадит цветы около крыльца, будет ухаживать за огородом. Для неё он раскопает участок, построит новую баню. Да мало ли что можно желать и делать вместе с такой юной чистой красавицей! Новая, совершенно иная жизнь начинается.
Саня-Саня закрыл дом, спрятал ключ в карман, закинул рюкзак на плечо и широко пошагал вниз, под гору, к железнодорожной станции.
На платформе уже стояли несколько ранних пассажиров, с недовольными заспанными лицами, некоторые курили. Саня-Саня улыбался себе и всем вокруг. Мимо прошёл хмурый похмельный сосед, кивнул коротко. Потом вернулся и заискивающе спросил у него денежку. Щедрый по сегодняшнему праздничному для себя дню, Саня-Саня отвалил соседу целую сотню.
Близко, за лесным гребнем, гуднула электричка. Через пару минут она лениво и сонно подтащила продрогшие лязгающие вагоны к платформе. Грохнули, раскрывшись, двери. Пассажиры взобрались внутрь, расселись подальше друг от друга.
Электричка снова гуднула, дёрнулась, тронулась с места.
Саня-Саня сел в первый вагон, поближе к выходу, чтобы первым потом выскочить из дверей на перрон. Он приник к холодному стеклу горячим раскрасневшимся лицом и смотрел, как всё быстрее пробегает мимо лес с полыхающими на солнце верхушками, жмурился, если тот начинал рябить, если лучи били прямо в глаза. Так хорошо!
А позади, через три вагона, запрыгнув в электричку в самый последний момент, ехала Алина. В лёгкой курточке, без шапки, с одной маленькой сумочкой через плечо, она уезжала из дома, из родной деревни навсегда.
Ей было плохо и страшно. Она бежала от своей беды и позора. Бежала, может быть, к ещё большему позору – к парню, которого едва знала. В нём одном она видела сейчас спасение.
Когда она убегала, мать была в хлеву, давала корм поросёнку и курам. Скоро она вернётся и увидит, что дочери нет.
Но ещё есть минуты и часы, пока каждый из них живёт в неведении. И есть солнце. И есть весна. И есть дом. И где-то там, за поворотом стальных рельсов, может быть, есть счастье.
Темная ночь
Из-за непогоды, разгулявшейся накануне, праздничный митинг получился скомканным. Съёжившись под злым напористым ветром, школьники жались друг к другу, как воробьи на ветке, и прикрывали покрасневшими от холода пальцами квёлые букетики тюльпанов. Два десятка взрослых терпеливо ожидали окончания мероприятия и вполуха слушали речь главы сельского поселения. И только малочисленная шеренга ветеранов и тружеников тыла стояла под высокой бетонной стелой гордо и торжественно. Непогода горстями швыряла им в лица колкую порошу, силилась сорвать платки и шляпы, теребила седые пряди, распахивала пальто и куртки. Но они стояли твёрдо, не дрогнув ни единым мускулом, словно снова на рубеже, снова под пулями. Только предательски слезились глаза. От сильного ли ветра, от воспоминаний ли, взявших за горло… Кто разберёт?
– В нашем селе осталось двое ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий. Дмитрий Николаевич Семёнов и Матвей Васильевич Коровин. Обоим за восемьдесят, но посмотрите, какие это крепкие старики!
Глава тепло взглянул на ветеранов и улыбнулся в густые чёрные усы. Смущённые всеобщим вниманием, мужчины вытянулись во фрунт. Один высокий, сухой, в смешных круглых очках, пустой правый рукав пальто аккуратно засунут в карман. Второй – ссутуленный, корявый, опирался на палочку, но смотрел на окружающих остро, задиристо.