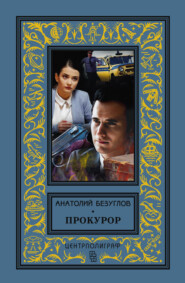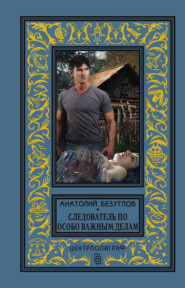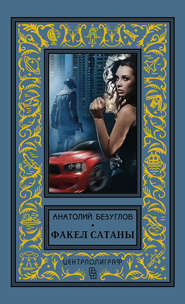По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Конец Хитрова рынка
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Став сбоку от двери, он постучал. Дверь тотчас открылась, будто нас уже ждали. На пороге стоял старик в ватнике, маленький, длинноносый, щуплый.
Не говоря ни слова, он пропустил нас в сени. Здесь было темно. Мартынов зажег зажигалку, и мы через кухню прошли в небольшую комнату, где над овальным столиком висела керосиновая лампа под цветным стеклянным абажуром. За столиком сидела старуха и раскладывала пасьянс.
– Вечер добрый, бабушка! – весело сказал Мартынов. – Как желания, сбудутся?
Не поворачивая склоненной под картами головы, старуха ворчливо сказала:
– Наследили, ноги лень вытереть…
– Чего там, – вступился старик, – гости издалеча… Ты бы чесанки дала, измерзлись…
– Вот и дай.
Мартынов скинул шубу и шапку.
– Шурка не приходил?
– Запаздывает чтой-то… А вы от него?
– Нет, папаша, из уголовного розыска.
– Вот оно что!
– Не тех гостей ждали?
– А нам все едино, – не поворачивая головы в нашу сторону, ответила старуха. – Мы люди маленькие.
– Маленькие-то маленькие, а бандитскую добычу храните.
– Это как же храним? – забеспокоился старик. – Слышишь, Надежда Федоровна, что товарищи сказывают, храним будто. Мы, дорогие граждане-товарищи, ничего не храним и не таим. Храним! Чего там хранить? Привезет Шурка: «Пусть полежит у тебя, тестюшка!» Пусть полежит – не корова, корма не требует. А что и откуда, нам знать не дано, честно или нечестно добыто, нам неведомо. Положил, и лежит. А что положил, и глядеть не будем, нелюбопытно нам.
– А нам любопытно, – прервал Мартынов расходившегося старика.
Бандиты свезли на дачу многое: меховые ротонды, мерлушковые пальто, бобровые воротники. В наволочке хранились романовские золотые и серебряные деньги, серьги, кольца, золотые безделушки. Отдельно лежали сложенные в аккуратные пачки царские сторублевки и керенки.
– Хоть магазин открывай, – ухмыльнулся Мартынов, небрежно толкая ногой развязанные тюки. – Нелюбопытный все-таки ты, папаша!
Ефимыча привели через час. Руки у него были связаны. С рассеченной губы лениво скатывалась на грудь алая струйка крови, в густых курчавых волосах – снег, франтоватый романовский полушубок разорван в нескольких местах.
Я с любопытством разглядывал шофера Кошелькова. Ему было лет тридцать пять – сорок. Тяжелая, отвисшая челюсть, угловатое лицо с нечистой кожей.
– У калитки взяли.
– Один был?
– Один.
Мартынов встал.
– Когда Кошельков будет?
– Сначала руки прикажи развязать, – попросил Клинкин, – ремни режут.
– Только чтоб тихо, – предупредил Мартынов, – не буйствовать.
– Чего ж буйствовать, когда вся хибара окружена, – рассудительно ответил Клинкин, отирая о плечо кровь с подбородка. – Видать, отгулял…
– Отгулял, Ефимыч, – согласился Мартынов. – Ваше дело такое: сегодня гуляешь, а завтра – в расход. Бандитское дело, одним словом. Так когда Яков будет?
– Не придет Яков Павлович. Завсегда так: большая рыба сети рвет, а малая в ячейках застревает.
– Ты философию не разводи! – прикрикнул Виктор. – Где Кошельков?
– Много у вас начальства, – прищурился Клинкин. – И он начальство, и ты начальство. Стакан самогона выпить дозволите?
Старик, шаркая ногами, принес бутыль и миску квашеной капусты с ледком. Ефимыч выпил, закусил, смочил в самогоне край вафельного полотенца и тщательно стер кровь с лица и с полушубка.
– Вот теперь и побалакать можно. Говорил мне, дураку, Яков Павлович, не сегодня завтра легавые засаду на даче поставят, не суйся туда, Ефимыч, пропади пропадом барахло это. Не послушался, думал, успею…
Мартынов и Виктор переглянулись.
– Откуда Кошельков узнал про засаду?
– Упредили его.
– Кто?
– А я знаю кто? Из ваших кто-то…
– Врешь!
– А чего мне врать?
На даче мы пробыли до утра. Кошельков так и не появился… Когда уводили Ефимыча, он в пояс поклонился старикам.
– Простите, коли в чем виноват!
– Бог простит, – ответила старуха, а старик подошел к нему и вкрадчиво сказал:
– Поминанье, Шура, закажем, не беспокойся. А полушубочек оставил бы, а? Тебе он теперь ни к чему, а нам со старухой какая ни на есть, а прибыль…
– Я тебе дам полушубочек, живоглот! – взорвался Виктор. – Еще кальсоны с него стащи! Не знаешь, что ли, какой мороз?!
– А ты не ори, не ори, – зашипела старуха, – тоже жалостливый! Дело-то наше семейное, ну и не встревай в него.
– Люди, – плюнул Виктор, – хуже зверья!
– Оно, конечно, темные мы, – подобострастно согласился старик, – никаких понятий, – и выжидательно посмотрел на Клинкина.
Не говоря ни слова, он пропустил нас в сени. Здесь было темно. Мартынов зажег зажигалку, и мы через кухню прошли в небольшую комнату, где над овальным столиком висела керосиновая лампа под цветным стеклянным абажуром. За столиком сидела старуха и раскладывала пасьянс.
– Вечер добрый, бабушка! – весело сказал Мартынов. – Как желания, сбудутся?
Не поворачивая склоненной под картами головы, старуха ворчливо сказала:
– Наследили, ноги лень вытереть…
– Чего там, – вступился старик, – гости издалеча… Ты бы чесанки дала, измерзлись…
– Вот и дай.
Мартынов скинул шубу и шапку.
– Шурка не приходил?
– Запаздывает чтой-то… А вы от него?
– Нет, папаша, из уголовного розыска.
– Вот оно что!
– Не тех гостей ждали?
– А нам все едино, – не поворачивая головы в нашу сторону, ответила старуха. – Мы люди маленькие.
– Маленькие-то маленькие, а бандитскую добычу храните.
– Это как же храним? – забеспокоился старик. – Слышишь, Надежда Федоровна, что товарищи сказывают, храним будто. Мы, дорогие граждане-товарищи, ничего не храним и не таим. Храним! Чего там хранить? Привезет Шурка: «Пусть полежит у тебя, тестюшка!» Пусть полежит – не корова, корма не требует. А что и откуда, нам знать не дано, честно или нечестно добыто, нам неведомо. Положил, и лежит. А что положил, и глядеть не будем, нелюбопытно нам.
– А нам любопытно, – прервал Мартынов расходившегося старика.
Бандиты свезли на дачу многое: меховые ротонды, мерлушковые пальто, бобровые воротники. В наволочке хранились романовские золотые и серебряные деньги, серьги, кольца, золотые безделушки. Отдельно лежали сложенные в аккуратные пачки царские сторублевки и керенки.
– Хоть магазин открывай, – ухмыльнулся Мартынов, небрежно толкая ногой развязанные тюки. – Нелюбопытный все-таки ты, папаша!
Ефимыча привели через час. Руки у него были связаны. С рассеченной губы лениво скатывалась на грудь алая струйка крови, в густых курчавых волосах – снег, франтоватый романовский полушубок разорван в нескольких местах.
Я с любопытством разглядывал шофера Кошелькова. Ему было лет тридцать пять – сорок. Тяжелая, отвисшая челюсть, угловатое лицо с нечистой кожей.
– У калитки взяли.
– Один был?
– Один.
Мартынов встал.
– Когда Кошельков будет?
– Сначала руки прикажи развязать, – попросил Клинкин, – ремни режут.
– Только чтоб тихо, – предупредил Мартынов, – не буйствовать.
– Чего ж буйствовать, когда вся хибара окружена, – рассудительно ответил Клинкин, отирая о плечо кровь с подбородка. – Видать, отгулял…
– Отгулял, Ефимыч, – согласился Мартынов. – Ваше дело такое: сегодня гуляешь, а завтра – в расход. Бандитское дело, одним словом. Так когда Яков будет?
– Не придет Яков Павлович. Завсегда так: большая рыба сети рвет, а малая в ячейках застревает.
– Ты философию не разводи! – прикрикнул Виктор. – Где Кошельков?
– Много у вас начальства, – прищурился Клинкин. – И он начальство, и ты начальство. Стакан самогона выпить дозволите?
Старик, шаркая ногами, принес бутыль и миску квашеной капусты с ледком. Ефимыч выпил, закусил, смочил в самогоне край вафельного полотенца и тщательно стер кровь с лица и с полушубка.
– Вот теперь и побалакать можно. Говорил мне, дураку, Яков Павлович, не сегодня завтра легавые засаду на даче поставят, не суйся туда, Ефимыч, пропади пропадом барахло это. Не послушался, думал, успею…
Мартынов и Виктор переглянулись.
– Откуда Кошельков узнал про засаду?
– Упредили его.
– Кто?
– А я знаю кто? Из ваших кто-то…
– Врешь!
– А чего мне врать?
На даче мы пробыли до утра. Кошельков так и не появился… Когда уводили Ефимыча, он в пояс поклонился старикам.
– Простите, коли в чем виноват!
– Бог простит, – ответила старуха, а старик подошел к нему и вкрадчиво сказал:
– Поминанье, Шура, закажем, не беспокойся. А полушубочек оставил бы, а? Тебе он теперь ни к чему, а нам со старухой какая ни на есть, а прибыль…
– Я тебе дам полушубочек, живоглот! – взорвался Виктор. – Еще кальсоны с него стащи! Не знаешь, что ли, какой мороз?!
– А ты не ори, не ори, – зашипела старуха, – тоже жалостливый! Дело-то наше семейное, ну и не встревай в него.
– Люди, – плюнул Виктор, – хуже зверья!
– Оно, конечно, темные мы, – подобострастно согласился старик, – никаких понятий, – и выжидательно посмотрел на Клинкина.