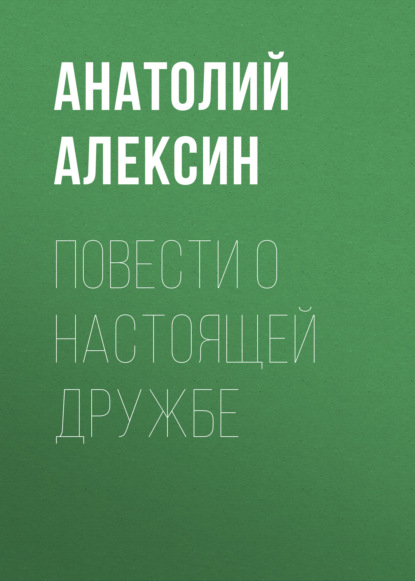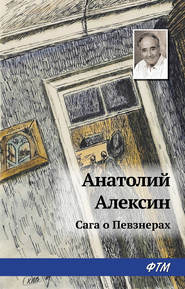По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести о настоящей дружбе
Жанр
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И только один человек в лагере радовался предстоящему Олиному отъезду – это был Коля Незлобин, по прозвищу Колька Свистун. Он любил переговариваться с птицами, к ребятам обращался коротко и грубовато: «Эй, ты!.. Слушай-ка!» – а с птицами беседовал ласково и безошибочно узнавал их голоса.
Но не за это прозвали его Свистуном. А за то, что как-то однажды, в прошлом году, он неожиданно для всех пообещал написать хорошие стихи к родительскому дню, а написал плохие, и родителей пришлось приветствовать в прозе. Правда, стихов этих не видел никто, кроме Оли Воронец. Она должна была читать их в концерте самодеятельности, но в последний момент читать отказалась, заявив, что стихи никуда не годятся.
Оля первая сказала Кольке: «Эх ты, Свистун!..» А он в ответ прозвал ее Вороной: это, кажется, была единственная птица, которую он не любил.
Никто, кроме Кольки, Олю Вороной не называл, а к нему прозвище Свистун приклеилось так прочно, словно было с рождения вписано в метрику.
Из всех споров, которые время от времени затевали по радио в пионерлагере, начальник больше всего любил дискуссию на тему: «Может ли мальчик дружить с девочкой?» И хотя всем было уже давно ясно, что мальчик дружить с девочкой может, он затевал это обсуждение каждое лето. В этом году его любимая дискуссия сразу стала затухать: спора не получалось. Тогда начальник лагеря выпустил к микрофону Кольку Свистуна, и тот громко, уверенно заявил, что девчонки – предательницы.
Те поняли, кого он имеет в виду, и бросились Оле на помощь. «Ишь ты, молчаливый-молчаливый, а разговорился!.. Высказался!» – верещали по радио девочки. Только успевали включать и выключать микрофон: дискуссия разгорелась с невиданной силой.
А Колька ничего не отвечал. Он вновь мрачно помалкивал. Некоторые считали, что он любил переговариваться с птицами лишь потому, что ему нечего сказать людям. Но на самом деле ему было бы что рассказать, если б он захотел…
О чем бы он мог рассказать…
Отец проектировал алюминиевые заводы, но, когда поднимались их корпуса, нигде – ни на кирпичах, ни на крыше, ни на трубе – не было написано, что тут есть частица и его, отцовского, труда. К тому же Колькиных приятелей вообще не пускали на территорию завода, и они не могли удостовериться в том, что его отец занят большим, трудным делом. А то, что без Колькиной мамы дворовая волейбольная команда не может сражаться со своими противниками, раньше, когда Колька еще ходил в детский сад, знали все.
Колькину маму никто по имени-отчеству не величал: все, даже ребята, называли ее просто Лёлей… «Вот придет наша Леля с работы, мы вам покажем!» – кричали они волейболистам соседнего двора. И Колька ходил гордый, будто он сам умел гасить так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки, будто это он сам «подавал» так, что мяч стремительным черным ядром пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть ее.
Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и в тенниске. Болельщики встречали ее торжествующим гулом, но она прежде всего разыскивала Кольку и усаживала его в самый первый ряд зрителей: на садовую скамейку или прямо на траву… И тут уж Колька сидел скромно, строго, не выражая своего ликования, а лишь изредка обменивался взглядами с мамой.
Это было давно, в далеком северном городе, откуда Колька уже уехал, но он помнил все очень ясно и знал, что не забудет этого никогда…
Отец был намного старше мамы. Он не умел играть в волейбол, плавать диковинным стилем баттерфляй и бегать на лыжах так быстро и легко, как умела мама. И она не заставляла его учиться всему этому. Но зато она научила его тоже ходить в спортивной майке с распахнутым воротом, долго гулять перед сном и делать по утрам гимнастику: она вытаскивала на середину комнаты сразу три коврика – для себя, для отца и, совсем маленький, для Кольки.
А еще она научила отца судить волейбольные матчи. И когда отец со свистком во рту усаживался сбоку, возле сетки, он тоже казался Кольке, а может быть, и всем остальным совсем молодым человеком. Его в те минуты тоже хотелось называть просто по имени… Хотя никто его все же так не называл.
Зато вслед за мамой все уважительно именовали его: «О, справедливейший из справедливых!» И папин свисток был для спортсменов законом. Возвращаясь домой после волейбольного сражения или вечерней прогулки, отец часто говорил маме: «Мне снова легко дышится… Снова легко!» И это было очень важно для отца, потому что он страдал бронхиальной астмой.
Ну а дома судьей была мама. Она никогда не давала громкого свистка, никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька весело и добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были честными. Мама тоже часто повторяла: «Это справедливо!» И Колька злился на Олю Воронец еще и за то, что она, как ему казалось, присвоила любимое мамино слово.
Мама работала воспитательницей в детском саду. И Колька был у нее в группе. Иногда он обижался, что к остальным пятнадцати малышам мама была так же внимательна, как и к нему. А может, еще внимательней. Однажды он разревелся по этой причине. Мама высоко подняла его и, серьезно глядя ему в глаза, сказала: «У меня нет никого роднее тебя. И не будет. Запомни это». Колька успокоился. И запомнил.
В детском саду он не раз слышал, как мамаши упрашивали директора: «Переведите ребят в группу к Лёле. Она такая добрая и хорошенькая…» То, что маму называли доброй, было очень приятно. Но слово «хорошенькая» не нравилось Кольке. «Она не хорошенькая, а хорошая!» – про себя возражал он, не понимая, что слово это относилось не к маме, а только к ее лицу – юному и озорному.
Однажды летом отца стали душить частые приступы астмы: климат далекого северного города стал опасным союзником папиной болезни.
«Я увезу тебя к самым лучшим врачам: к реке, к свежему воздуху… И они вылечат тебя! – сказала мама. – Мы заберемся в глушь и будем жить, как робинзоны!»
Втроем они ехали поездом, потом на грузовике, потом шли немножко пешком – и забрались туда, где воздух был сухим, а природа именно такой, какую долгие годы прописывали отцу доктора, приговаривая: «Но все это, конечно, недостижимый идеал. Поэтому обратимся-ка лучше к таблеткам и каплям!»
Доктора не были знакомы с мамой и не знали, что она умела делать «достижимым» все, что нужно было отцу и Кольке.
Раньше дома, по вечерам, мамино возвращение с работы мигом преображало все: утолялся голод, комната становилась уютной и чистой… И если мама задерживалась, Колька и отец чувствовали себя какими-то неустроенными, словно сидели на вокзале в ожидании поезда, который опаздывал и неизвестно когда должен был прийти.
То было дома, в городской квартире… А тут, на берегу реки, мама вдруг проявила такие способности, каких даже Колька с отцом не ожидали. Отец по утрам планировал предстоящий день отдыха, а мама смеялась: «Эх ты, проектировщик! Теоретик мой неисправимый!..» И разжигала печку в домике лесника или даже костер прямо в лесу, и варила суп, картошку, кипятила молоко…
Отец посвежел, забыл про свои лекарства. «Теперь мы с вами три богатыря!» – говорила мама. Но однажды вечером легла на бок, побледнела и, увидев испуганное Колькино лицо, заулыбалась как-то неестественно, через силу. Колька вдруг почувствовал, что выражение «земля уходит из-под ног» – это не выдумка, не преувеличение: ноги его подкашивались от волнения и он не ощущал под собой твердого дощатого пола.
Пожилой лесник, отец и Колька на брезентовой плащ-палатке несли маму в деревню, что была в пяти километрах: к домику лесника нельзя было подъехать даже на телеге. Мама все время держала Кольку за руку (не отца, не лесника, а только его – Колька навсегда запомнил это!). Она то и дело, быть может почти бессознательно, повторяла: «Ничего… Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь…» И только изредка спрашивала: «Еще долго? Еще долго?..» А они, все трое, молчали.
Колька думал о том, что отец, когда ему было плохо, становился по-детски растерянным и, казалось, хотел переложить на окружающих свои страдания или хотя бы поделиться с ними своею болью, мама же все время пыталась снять с их плеч тяжесть и страх. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь…»
В лесу быстро темнело. Идти было трудно. И все, что еще недавно казалось таким заманчивым – непроходимые заросли, глухое переплетение ветвей, – все это сейчас было враждебно и ненавистно Кольке. «Еще долго? Еще долго?..» – спрашивала мама.
Из деревни они позвонили в райцентр, что был за двадцать пять километров, в больницу. «Скорая помощь» добиралась из райцентра целую вечность, хотя по часам выходило, что ехала она всего около часа.
Молодой человек в белом халате, очень неразговорчивый, даже не поздоровавшись, стал сразу осматривать маму. А потом коротко сообщил: «Аппендицит». Садясь в белую машину с красным крестом впереди, на круглом фонаре, он произнес еще два слова: «Надо успеть». Отец тоже сел в машину. И она умчалась. А Колька даже не догадался сказать… чтобы и его взяли с собой.
Он стоял возле сельсовета, рядом с пожилым лесником и мысленно повторял последние мамины слова, тоже обращенные не к отцу, не к врачу в белом халате и не к пожилому леснику в резиновых сапогах, а только к нему, к Кольке, к нему одному:
– Все будет хорошо. Аппендицит – это ерунда. От этого не умирают…
* * *
Мама умерла. Это было давно, в тот год, когда Колька еще только собирался на свой первый школьный урок. А теперь он уже был в шестом классе…
Прошли годы. Но Колька ни на день не забывал строгого молодого человека в белом халате и короткую фразу: «Надо успеть». Почему же они не успели?..
Странная, непонятная людям привычка появилась у Кольки – почти каждого нового знакомого он спрашивал: «У вас был аппендицит?»
«Был, – отвечали ему. – Вырезали. Ерундовое дело!»
И снова все та же неотвязная мысль рвала сердце: «А если бы больница оказалась ближе? А если бы дорога в лесу была проходимее?» Он слышал мамин голос: «У меня нет никого роднее тебя. И не будет».
То далекое лето, поначалу такое беспечное, неотступно стояло перед его глазами и никак не хотело становиться воспоминанием…
Возле старого дуба
Начальник лагеря обожал принимать делегации. Тогда в любую жару он появлялся среди душного леса в темном костюме и при галстуке. Как экскурсовод, ходил он с вытянутым вперед указательным пальцем, объясняя, что беседка называется беседкой, а библиотека – библиотекой; похлопывал по плечу всех встречных ребят, хотя в остальные дни еле с ними здоровался, и тоном во все вникающего отца родного невпопад задавал вопросы: «Ну, как прошла линейка? Что было на совете лагеря?»
«Линейка» и «совет лагеря» – это были те немногие пионерские термины, которые он знал наизусть. Почти никто из ребят не помнил его имени-отчества, а все так прямо и называли – начальником. Он, казалось, был твердо убежден, что пионерлагерь для того главным образом и существует, чтобы его можно было показывать комиссиям и туристам.
Оля не любила начальника лагеря. И однажды, когда руководство из постройкома оглядело все лагерные объекты, когда начальник утомленно произнес свою любимую фразу: «Вот так мы и живем!», а руководство благодарно ответило ему: «Хорошо живете!», Оля неожиданно для всех вмешалась в разговор:
– И все это сделал Феликс!
– Кто-кто? – подчеркивая свое особое внимание к «голосу детей», заинтересовалось руководство. – Пионер? Как его фамилия?
– Нет, это старший вожатый… Феликс! Мы его по фамилии не называем.
Начальник лагеря побледнел, а руководство что-то записало в блокнот, на обложке которого было золотом выгравировано: «Делегату профсоюзной конференции».
Феликс тоже не любил начальника и работал в лагере потому, что не хотел на целое лето расставаться с ребятами, которых знал уже три с лишним года: в школе у них он был старшим вожатым. И подрабатывать ему было необходимо.
– Органичное сочетание лирики с прозой жизни, – говорил он.
Еще мальчишкой в Крыму Феликс наткнулся на мину, и ему оторвало правую руку.
Но не за это прозвали его Свистуном. А за то, что как-то однажды, в прошлом году, он неожиданно для всех пообещал написать хорошие стихи к родительскому дню, а написал плохие, и родителей пришлось приветствовать в прозе. Правда, стихов этих не видел никто, кроме Оли Воронец. Она должна была читать их в концерте самодеятельности, но в последний момент читать отказалась, заявив, что стихи никуда не годятся.
Оля первая сказала Кольке: «Эх ты, Свистун!..» А он в ответ прозвал ее Вороной: это, кажется, была единственная птица, которую он не любил.
Никто, кроме Кольки, Олю Вороной не называл, а к нему прозвище Свистун приклеилось так прочно, словно было с рождения вписано в метрику.
Из всех споров, которые время от времени затевали по радио в пионерлагере, начальник больше всего любил дискуссию на тему: «Может ли мальчик дружить с девочкой?» И хотя всем было уже давно ясно, что мальчик дружить с девочкой может, он затевал это обсуждение каждое лето. В этом году его любимая дискуссия сразу стала затухать: спора не получалось. Тогда начальник лагеря выпустил к микрофону Кольку Свистуна, и тот громко, уверенно заявил, что девчонки – предательницы.
Те поняли, кого он имеет в виду, и бросились Оле на помощь. «Ишь ты, молчаливый-молчаливый, а разговорился!.. Высказался!» – верещали по радио девочки. Только успевали включать и выключать микрофон: дискуссия разгорелась с невиданной силой.
А Колька ничего не отвечал. Он вновь мрачно помалкивал. Некоторые считали, что он любил переговариваться с птицами лишь потому, что ему нечего сказать людям. Но на самом деле ему было бы что рассказать, если б он захотел…
О чем бы он мог рассказать…
Отец проектировал алюминиевые заводы, но, когда поднимались их корпуса, нигде – ни на кирпичах, ни на крыше, ни на трубе – не было написано, что тут есть частица и его, отцовского, труда. К тому же Колькиных приятелей вообще не пускали на территорию завода, и они не могли удостовериться в том, что его отец занят большим, трудным делом. А то, что без Колькиной мамы дворовая волейбольная команда не может сражаться со своими противниками, раньше, когда Колька еще ходил в детский сад, знали все.
Колькину маму никто по имени-отчеству не величал: все, даже ребята, называли ее просто Лёлей… «Вот придет наша Леля с работы, мы вам покажем!» – кричали они волейболистам соседнего двора. И Колька ходил гордый, будто он сам умел гасить так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки, будто это он сам «подавал» так, что мяч стремительным черным ядром пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть ее.
Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и в тенниске. Болельщики встречали ее торжествующим гулом, но она прежде всего разыскивала Кольку и усаживала его в самый первый ряд зрителей: на садовую скамейку или прямо на траву… И тут уж Колька сидел скромно, строго, не выражая своего ликования, а лишь изредка обменивался взглядами с мамой.
Это было давно, в далеком северном городе, откуда Колька уже уехал, но он помнил все очень ясно и знал, что не забудет этого никогда…
Отец был намного старше мамы. Он не умел играть в волейбол, плавать диковинным стилем баттерфляй и бегать на лыжах так быстро и легко, как умела мама. И она не заставляла его учиться всему этому. Но зато она научила его тоже ходить в спортивной майке с распахнутым воротом, долго гулять перед сном и делать по утрам гимнастику: она вытаскивала на середину комнаты сразу три коврика – для себя, для отца и, совсем маленький, для Кольки.
А еще она научила отца судить волейбольные матчи. И когда отец со свистком во рту усаживался сбоку, возле сетки, он тоже казался Кольке, а может быть, и всем остальным совсем молодым человеком. Его в те минуты тоже хотелось называть просто по имени… Хотя никто его все же так не называл.
Зато вслед за мамой все уважительно именовали его: «О, справедливейший из справедливых!» И папин свисток был для спортсменов законом. Возвращаясь домой после волейбольного сражения или вечерней прогулки, отец часто говорил маме: «Мне снова легко дышится… Снова легко!» И это было очень важно для отца, потому что он страдал бронхиальной астмой.
Ну а дома судьей была мама. Она никогда не давала громкого свистка, никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька весело и добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были честными. Мама тоже часто повторяла: «Это справедливо!» И Колька злился на Олю Воронец еще и за то, что она, как ему казалось, присвоила любимое мамино слово.
Мама работала воспитательницей в детском саду. И Колька был у нее в группе. Иногда он обижался, что к остальным пятнадцати малышам мама была так же внимательна, как и к нему. А может, еще внимательней. Однажды он разревелся по этой причине. Мама высоко подняла его и, серьезно глядя ему в глаза, сказала: «У меня нет никого роднее тебя. И не будет. Запомни это». Колька успокоился. И запомнил.
В детском саду он не раз слышал, как мамаши упрашивали директора: «Переведите ребят в группу к Лёле. Она такая добрая и хорошенькая…» То, что маму называли доброй, было очень приятно. Но слово «хорошенькая» не нравилось Кольке. «Она не хорошенькая, а хорошая!» – про себя возражал он, не понимая, что слово это относилось не к маме, а только к ее лицу – юному и озорному.
Однажды летом отца стали душить частые приступы астмы: климат далекого северного города стал опасным союзником папиной болезни.
«Я увезу тебя к самым лучшим врачам: к реке, к свежему воздуху… И они вылечат тебя! – сказала мама. – Мы заберемся в глушь и будем жить, как робинзоны!»
Втроем они ехали поездом, потом на грузовике, потом шли немножко пешком – и забрались туда, где воздух был сухим, а природа именно такой, какую долгие годы прописывали отцу доктора, приговаривая: «Но все это, конечно, недостижимый идеал. Поэтому обратимся-ка лучше к таблеткам и каплям!»
Доктора не были знакомы с мамой и не знали, что она умела делать «достижимым» все, что нужно было отцу и Кольке.
Раньше дома, по вечерам, мамино возвращение с работы мигом преображало все: утолялся голод, комната становилась уютной и чистой… И если мама задерживалась, Колька и отец чувствовали себя какими-то неустроенными, словно сидели на вокзале в ожидании поезда, который опаздывал и неизвестно когда должен был прийти.
То было дома, в городской квартире… А тут, на берегу реки, мама вдруг проявила такие способности, каких даже Колька с отцом не ожидали. Отец по утрам планировал предстоящий день отдыха, а мама смеялась: «Эх ты, проектировщик! Теоретик мой неисправимый!..» И разжигала печку в домике лесника или даже костер прямо в лесу, и варила суп, картошку, кипятила молоко…
Отец посвежел, забыл про свои лекарства. «Теперь мы с вами три богатыря!» – говорила мама. Но однажды вечером легла на бок, побледнела и, увидев испуганное Колькино лицо, заулыбалась как-то неестественно, через силу. Колька вдруг почувствовал, что выражение «земля уходит из-под ног» – это не выдумка, не преувеличение: ноги его подкашивались от волнения и он не ощущал под собой твердого дощатого пола.
Пожилой лесник, отец и Колька на брезентовой плащ-палатке несли маму в деревню, что была в пяти километрах: к домику лесника нельзя было подъехать даже на телеге. Мама все время держала Кольку за руку (не отца, не лесника, а только его – Колька навсегда запомнил это!). Она то и дело, быть может почти бессознательно, повторяла: «Ничего… Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь…» И только изредка спрашивала: «Еще долго? Еще долго?..» А они, все трое, молчали.
Колька думал о том, что отец, когда ему было плохо, становился по-детски растерянным и, казалось, хотел переложить на окружающих свои страдания или хотя бы поделиться с ними своею болью, мама же все время пыталась снять с их плеч тяжесть и страх. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь…»
В лесу быстро темнело. Идти было трудно. И все, что еще недавно казалось таким заманчивым – непроходимые заросли, глухое переплетение ветвей, – все это сейчас было враждебно и ненавистно Кольке. «Еще долго? Еще долго?..» – спрашивала мама.
Из деревни они позвонили в райцентр, что был за двадцать пять километров, в больницу. «Скорая помощь» добиралась из райцентра целую вечность, хотя по часам выходило, что ехала она всего около часа.
Молодой человек в белом халате, очень неразговорчивый, даже не поздоровавшись, стал сразу осматривать маму. А потом коротко сообщил: «Аппендицит». Садясь в белую машину с красным крестом впереди, на круглом фонаре, он произнес еще два слова: «Надо успеть». Отец тоже сел в машину. И она умчалась. А Колька даже не догадался сказать… чтобы и его взяли с собой.
Он стоял возле сельсовета, рядом с пожилым лесником и мысленно повторял последние мамины слова, тоже обращенные не к отцу, не к врачу в белом халате и не к пожилому леснику в резиновых сапогах, а только к нему, к Кольке, к нему одному:
– Все будет хорошо. Аппендицит – это ерунда. От этого не умирают…
* * *
Мама умерла. Это было давно, в тот год, когда Колька еще только собирался на свой первый школьный урок. А теперь он уже был в шестом классе…
Прошли годы. Но Колька ни на день не забывал строгого молодого человека в белом халате и короткую фразу: «Надо успеть». Почему же они не успели?..
Странная, непонятная людям привычка появилась у Кольки – почти каждого нового знакомого он спрашивал: «У вас был аппендицит?»
«Был, – отвечали ему. – Вырезали. Ерундовое дело!»
И снова все та же неотвязная мысль рвала сердце: «А если бы больница оказалась ближе? А если бы дорога в лесу была проходимее?» Он слышал мамин голос: «У меня нет никого роднее тебя. И не будет».
То далекое лето, поначалу такое беспечное, неотступно стояло перед его глазами и никак не хотело становиться воспоминанием…
Возле старого дуба
Начальник лагеря обожал принимать делегации. Тогда в любую жару он появлялся среди душного леса в темном костюме и при галстуке. Как экскурсовод, ходил он с вытянутым вперед указательным пальцем, объясняя, что беседка называется беседкой, а библиотека – библиотекой; похлопывал по плечу всех встречных ребят, хотя в остальные дни еле с ними здоровался, и тоном во все вникающего отца родного невпопад задавал вопросы: «Ну, как прошла линейка? Что было на совете лагеря?»
«Линейка» и «совет лагеря» – это были те немногие пионерские термины, которые он знал наизусть. Почти никто из ребят не помнил его имени-отчества, а все так прямо и называли – начальником. Он, казалось, был твердо убежден, что пионерлагерь для того главным образом и существует, чтобы его можно было показывать комиссиям и туристам.
Оля не любила начальника лагеря. И однажды, когда руководство из постройкома оглядело все лагерные объекты, когда начальник утомленно произнес свою любимую фразу: «Вот так мы и живем!», а руководство благодарно ответило ему: «Хорошо живете!», Оля неожиданно для всех вмешалась в разговор:
– И все это сделал Феликс!
– Кто-кто? – подчеркивая свое особое внимание к «голосу детей», заинтересовалось руководство. – Пионер? Как его фамилия?
– Нет, это старший вожатый… Феликс! Мы его по фамилии не называем.
Начальник лагеря побледнел, а руководство что-то записало в блокнот, на обложке которого было золотом выгравировано: «Делегату профсоюзной конференции».
Феликс тоже не любил начальника и работал в лагере потому, что не хотел на целое лето расставаться с ребятами, которых знал уже три с лишним года: в школе у них он был старшим вожатым. И подрабатывать ему было необходимо.
– Органичное сочетание лирики с прозой жизни, – говорил он.
Еще мальчишкой в Крыму Феликс наткнулся на мину, и ему оторвало правую руку.