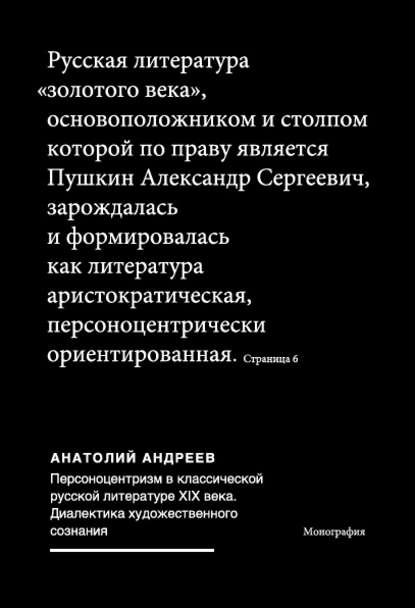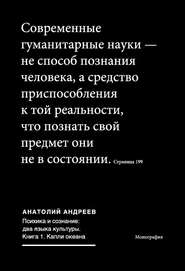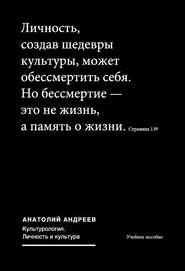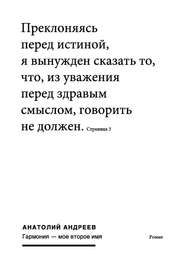По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Персоноцентризм в классической русской литературе ХIХ века. Диалектика художественного сознания
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не с такой программой, не с такими «планами» вернулся в родовое гнездо князь Андрей; у него была своя программа. Во-первых – «Князь Андрей после Аустерлицкой кампании твердо решил никогда не служить более в военной службе» (что, очевидно, не слишком согласуется с пунктом «не желай ничего для себя»; Андрей Болконский по-прежнему считал себя хозяином своей судьбы). Во-вторых, несмотря на принятое решение, его «сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него, жизнь могла волновать его» (такова была реакция князя Андрея на прочтение письма Билибина, в котором дипломат подробно информирует о ходе очередной кампании против Наполеона). «Тамошняя» жизнь его волновала, он завидовал людям, ведущим активную общественную жизнь, желал для себя иной судьбы и крайне неохотно смирялся с тем, что он вынужден был ограничить свой искусственно выгороженный мирок заботами о подрастающем сыне: «Да, это одно, что осталось мне теперь», – сказал он со вздохом». Иными словами, он находился в неустойчивом состоянии поиска.
Именно в таком состоянии застал его Пьер. Посмотрим на «постаревшего» князя Андрея глазами повествователя и одновременно Пьера: «взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то что похудел, побледнел, возмужал его друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним». О чем же сосредоточенно размышлял живший явно неудовлетворявшей его жизнью несчастливый князь Андрей? «Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастие и на добро неприличны». Наконец, Пьер прямо спросил: «Какие ваши планы?»
Князь Андрей изложил «свой новый взгляд на вещи» опять по-французски, что, во-первых, подчеркивало рационализм формул Болконского, а во-вторых, отчуждало «не в меру умного князя» не только от преданного «мечтам и надеждам на счастие» Пьера, но и от самого духа русскости, от народного взгляда на вещи (этот подтекст мы в полной мере оценим позднее, когда волею повествователя Болконский повернется лицом к народу). (Кстати, в свете сказанного легко понять, почему эпопея о русском народе начинается с пошловатой французской тирады в великосветском салоне, принадлежащем хозяйке с нерусской фамилией. Казалось бы, грипп, Генуя, Лукка, фрейлина, красный лакей, аббат – все это очень далеко от народа, от крестьян, солдат, Кутузова, Тушина, Каратаева, Щербатого…
На самом деле роман и начинается с народа – только «от противного», от антинародной составляющей духа народного. Народная тема скрыто, имплицитно присутствует везде, во всем; особенно активно она переплетается с главной темой: противостоянием «разума» – «душе». Более того, народная тема и необходима именно как способ возвеличивания «души». Но и об этом – в свое время, позднее.) Князь Андрей сказал: «Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызения совести и болезнь. Жить для себя, избегая только этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь». Открытый вызов тому божественному откровению, истинность которого ни на секунду не ставила под сомнение княжна Марья, – налицо. Сестру Болконского тут же поддержал Пьер: «счастие жизни», считает он, заключается в том, чтобы «жить для других». (Болконский, между прочим, иронично заметил: «Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь».)
Далее князь Андрей предстал во всем интеллектуальном блеске, по пунктам разбив программу «наслаждения делать добро» другим не искушенного в гимнастике ума Пьера. Но опять же: там, где повествователь пытается выставить на всеобщее обозрение «идиотизм мысли», там «в идиотах» оказывается не разум (как планировал всевидящий и всепонимающий «образ автора»), а нечто иное: стремление опорочить ум. Толстому вновь не удалось скомпрометировать ум как таковой (а это, главным образом, ум многомерный, всеобъемлющий, диалектический), хотя цель его, несомненно, заключалась именно в этом. Что касается критики ума догматического, то здесь Толстой весьма преуспел – и это, надо признать, является одной из сильнейших сторон романа.
Князь Андрей, словно на интеллектуальном турнире, логически безупречно доказывает бессмысленность позиции «творить добро». Реакция чуткого к интеллектуальной фальши Пьера не оставляет сомнения в том, что князь в очередной раз перемудрил: «Ах, это ужасно, ужасно! (…) Я не понимаю только, как можно жить с такими мыслями». Вот черта, за которую никогда всерьез не перешагивал Пьер: мысли должны быть такими, чтобы с ними можно было жить (а еще лучше, как выяснится впоследствии, вообще жить без мыслей). Дело даже не в том, прав или неправ князь Андрей; дело в том, что его логика несовместима с жизнью, вот что пугает жизнелюбивого Пьера. Болконский не побоялся истину развести с жизнью – и тем самым обрек себя на несчастливую жизнь. «Вы не должны так думать», – заключает Пьер.
Признаем, что в новом взгляде на вещи у князя Андрея присутствуют элементы трагизма. В этом состоянии он отчасти напоминает нам незрелого Онегина, вплоть до буквальных совпадений: «А мне кажется, что единственно возможное счастье – есть счастье животное, а ты его-то (мужика – А.А.) хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств». Вот он, момент горя от ума.
Однако если повествователь «Евгения Онегина» увидел в интеллектуальном мужании предпосылку прогресса духовного, то повествователь «Войны и мира» трактует «бессмысленную», далекую от жизни диалектику, игру ума как симптом реального «недуга», от которого надо как можно быстрее избавиться.
Именно в таком состоянии застал его Пьер. Посмотрим на «постаревшего» князя Андрея глазами повествователя и одновременно Пьера: «взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то что похудел, побледнел, возмужал его друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним». О чем же сосредоточенно размышлял живший явно неудовлетворявшей его жизнью несчастливый князь Андрей? «Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастие и на добро неприличны». Наконец, Пьер прямо спросил: «Какие ваши планы?»
Князь Андрей изложил «свой новый взгляд на вещи» опять по-французски, что, во-первых, подчеркивало рационализм формул Болконского, а во-вторых, отчуждало «не в меру умного князя» не только от преданного «мечтам и надеждам на счастие» Пьера, но и от самого духа русскости, от народного взгляда на вещи (этот подтекст мы в полной мере оценим позднее, когда волею повествователя Болконский повернется лицом к народу). (Кстати, в свете сказанного легко понять, почему эпопея о русском народе начинается с пошловатой французской тирады в великосветском салоне, принадлежащем хозяйке с нерусской фамилией. Казалось бы, грипп, Генуя, Лукка, фрейлина, красный лакей, аббат – все это очень далеко от народа, от крестьян, солдат, Кутузова, Тушина, Каратаева, Щербатого…
На самом деле роман и начинается с народа – только «от противного», от антинародной составляющей духа народного. Народная тема скрыто, имплицитно присутствует везде, во всем; особенно активно она переплетается с главной темой: противостоянием «разума» – «душе». Более того, народная тема и необходима именно как способ возвеличивания «души». Но и об этом – в свое время, позднее.) Князь Андрей сказал: «Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызения совести и болезнь. Жить для себя, избегая только этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь». Открытый вызов тому божественному откровению, истинность которого ни на секунду не ставила под сомнение княжна Марья, – налицо. Сестру Болконского тут же поддержал Пьер: «счастие жизни», считает он, заключается в том, чтобы «жить для других». (Болконский, между прочим, иронично заметил: «Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь».)
Далее князь Андрей предстал во всем интеллектуальном блеске, по пунктам разбив программу «наслаждения делать добро» другим не искушенного в гимнастике ума Пьера. Но опять же: там, где повествователь пытается выставить на всеобщее обозрение «идиотизм мысли», там «в идиотах» оказывается не разум (как планировал всевидящий и всепонимающий «образ автора»), а нечто иное: стремление опорочить ум. Толстому вновь не удалось скомпрометировать ум как таковой (а это, главным образом, ум многомерный, всеобъемлющий, диалектический), хотя цель его, несомненно, заключалась именно в этом. Что касается критики ума догматического, то здесь Толстой весьма преуспел – и это, надо признать, является одной из сильнейших сторон романа.
Князь Андрей, словно на интеллектуальном турнире, логически безупречно доказывает бессмысленность позиции «творить добро». Реакция чуткого к интеллектуальной фальши Пьера не оставляет сомнения в том, что князь в очередной раз перемудрил: «Ах, это ужасно, ужасно! (…) Я не понимаю только, как можно жить с такими мыслями». Вот черта, за которую никогда всерьез не перешагивал Пьер: мысли должны быть такими, чтобы с ними можно было жить (а еще лучше, как выяснится впоследствии, вообще жить без мыслей). Дело даже не в том, прав или неправ князь Андрей; дело в том, что его логика несовместима с жизнью, вот что пугает жизнелюбивого Пьера. Болконский не побоялся истину развести с жизнью – и тем самым обрек себя на несчастливую жизнь. «Вы не должны так думать», – заключает Пьер.
Признаем, что в новом взгляде на вещи у князя Андрея присутствуют элементы трагизма. В этом состоянии он отчасти напоминает нам незрелого Онегина, вплоть до буквальных совпадений: «А мне кажется, что единственно возможное счастье – есть счастье животное, а ты его-то (мужика – А.А.) хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств». Вот он, момент горя от ума.
Однако если повествователь «Евгения Онегина» увидел в интеллектуальном мужании предпосылку прогресса духовного, то повествователь «Войны и мира» трактует «бессмысленную», далекую от жизни диалектику, игру ума как симптом реального «недуга», от которого надо как можно быстрее избавиться.