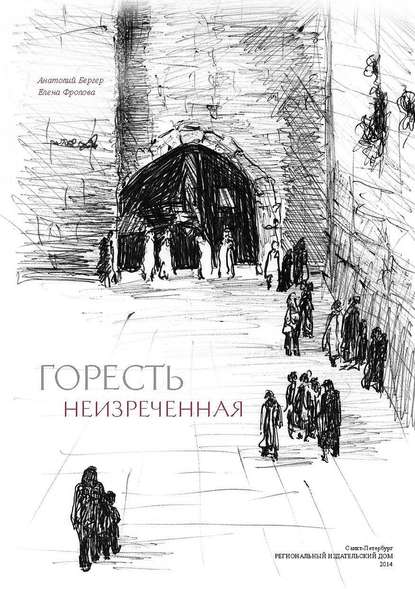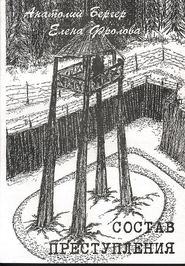По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Горесть неизреченная (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У баптистов
Когда муж ездил страховать в дальние деревни, я зачастую увязывалась с ним. Предлагать застраховать жизнь или имущество здесь не стыдно – сами ждут: то медведь в соседнем селе задрал корову, то лесина, упав, мужика покалечила, то сгорела баня, и пожар каждую ночь потом снится. А возможность зайти в любой дом, увидеть, как смотрят из-за занавески внимательные детские глаза, услышать, как прошелестит старушка: «Что ты, милый, пенсия – 20, за 12 мешок муки купила, куда раньше – не знаю», посидеть в справной избе, где и ребята чистые, и хозяйка большая, крепко сбитая и с мужем согласие, уважение друг к другу, услышать неожиданную горькую исповедь неказистого мужичонки, исповедь, которая захлебнётся, едва начавшись – какие часто мучительные, но необходимые сердцу минуты…
В деревне Тюхтяты нас взяла на квартиру (вернее, в свой обычный крестьянский дом) председательница сельсовета. Невысокая, с лицом усталым, но всё ещё красивым и значительным она поражала необычной для людей – при должности – смелой решительностью. Тюхтяты – деревня для начальства трудная: живут тут и бывшие раскулаченные (сама председательница из них) и те, которые выгоняли своих односельчан с детьми из дома, отбирали имущество, скотину.
Ничего не забылось, как показывает опыт. И идут стенка на стенку внуки прежних врагов. Нам и самим пришлось познакомиться с тем, кто когда-то вершил тут расправу. Маленький старичок с паучьими ручками и ножками, приняв нас за начальство, стал жаловаться – то внуки бывших кулаков у него мотор от лодки испортили, то камень кинули. Мы, признаться, слушали не без злорадства. А ей, председательнице, каково. Что же касается помощи из района, – улыбнулась она, – Хм… Расскажу вам один случай.
У нас в селе баптистская группа. Они как бы официально не запрещены, встречаются открыто. Но вот приехали агитаторы из района (с милицией, естественно) проводить с ними антирелигиозную работу. Собрали всех в клуб. И стали говорить, что Бога нет. Баптисты, как вы знаете, библию читают постоянно, они им на каждое слово – из священного писания. Быстро иссякли пропагандисты. И тогда один из приехавших обратился к единственному в секте мужчине: «Собирайся, поедешь с нами».
Встала старшая (не знаю, как она у баптистов называется), благословила старика: «Поезжай, брат, пострадай за дело Божье».
Пошёл старик домой, собрал узелок, стоит, ждёт. А агитаторы сидят, пьют, едят да в окно на стоящего посматривают да посмеиваются.
Вышли, забрали в машину, провезли километров 20 да и высадили. А он потом со своим узелком пешком домой возвращался.
– Гады, – сказали мы. Помолчала председательница, но была в её взгляде и боль, и горечь.
Назавтра, когда пошли мы по селу страховать, постучались и в избу баптистов. Сразу почему-то поняли, куда пришли. Дом их среди всех выделялся. Пол белый, скобленый, чистый-чистый, на особом столе – Библия. Вышли к нам навстречу старик и старуха. Высокие, крепкие, красивые. Одетые опрятно и даже нарядно. Платок на старухе с цветами, у старика сорочка у ворота вышита.
Страховать что-либо они отказались сразу. На всё, мол, воля Божья. Но незваных гостей из дома не торопили. А когда муж подошел к столу с Библией, взял в руки Книгу, какой веры мы – не интересовались, приняли нас, как самых желанных.
На чисто белый стол хозяйка поставила две тарелки прозрачного бульона, миску домашней сметаны, тарелку мёда со своей пасеки, свежеиспечённый хлеб. Сметана была густая, как масло, запах мёда распространялся по всей избе.
Наверное, в своей жизни я ела и более вкусные яства, но ни одна трапеза не запомнилась мне так подробно и зримо.
Сейчас, когда много говорят о необходимости возврата к крестьянским хозяйствам, рассказывают, как хорошо жила деревня до революции, я понимаю, что это идеализация. Жили по-разному, и разными были люди. Да если бы такой распрекрасной была Россия, не продержались бы большевики столько времени. Но вот перед глазами дом баптистов – двух высоких, красивых людей из сибирской деревни Тюхтяты.
Рядом с Николой
Церковь деревянная, высокая, шатровая, лемех блестит на солнце, крытая галерея ведёт в зимнюю половину. Крыльцо, балясины. Не первый раз вижу такую красавицу, но чтобы без туристов, без охов, вспышек фотоаппаратов… Никого. Скромный погост вокруг да несколько изб поодаль.
Пока мои спутники ходили за хранительницей ключей от церкви, я нашла щель в заборе, подошла поближе и осталась одна с красотой, тишиной, покоем.
Держательница ключей оказалась ещё крепкой, широкой в кости старушкой, несмотря на хромоту, прочно укоренённой на земле. Открывая неувиденную мной калитку, она уже рассказывала, как сюда, в эту деревушку Согнивицы теперь даже иностранцы приезжают.
Бойко прошкандыбала по ступеням, повернула ключ в замке.
Церковь внутри оказалась просторной, чистой. Реставраторы подремонтировали угол, а центральную часть не тронули. Посередине высился столб из какого-то розоватого дерева, наверху коньки-обереги.
– А служба здесь бывает?
– До 34-го года служил отец Василий. А там забрали. Мама его прятала, да всё равно нашли. Я думаю – его, коли и довезли, то сразу и выкинули. Он там уж не жил. Старый был.
– И ничего о нём не слышали?
– Откуда? Тогда многих забрали. Один мужик жену схоронил, три дочки остались. Забрали. Но у нас люди хорошие, взяли их по семьям. Одна и сейчас здесь живёт. Прислали ей бумагу – где отец похоронен. Да кто сейчас поедет? Здесь бы могилы убрать. У нас тут две с половиной тысячи жило, сейчас пятнадцать.
– Раскулачивание?
– Кулачили сильно. И война.
– А Вы в войну здесь жили?
– Нет, меня в город увезли. У меня до сих пор в Петрозаводске подруга осталась. Мы с ней тогда работали. Пишет, в гости зовёт.
– А работали где?
– На железной дороге. В конторе прибирались.
– Немцы?
– Нет, финны. Немцы редко приходили.
– Ой, чего расскажу. Был там один финн. Вот говорит он официантке – тут есть одна хорошая русская девушка, я ей хочу по-русски «добрый день» сказать. А та возьми и научи – по матушке. Ну, схулиганила.
Я иду. Он: «Галя, добрый и…» Я не сдержалась – Дурак, – говорю. Он обиделся: «Почему я дурак?». А я убежала.
Назавтра позвали меня в контору хозяева:
– Как же ты могла финского офицера дураком назвать?
А я стою, молчу.
– Он тебя обидел?
– Обидел, – говорю.
Они к нему:
– Что ты ей сказал?
Он (я по фински уже понимала):
– Я только хотел сказать «добрый день»
– А как ты сказал?
Он и повторил. А те русский хорошо знали.
– Дурак ты, – говорят. И объяснили.
Он покраснел:
– Ой, Галя, прости меня.
– Простила, говорю.
Назавтра иду. Он навстречу.