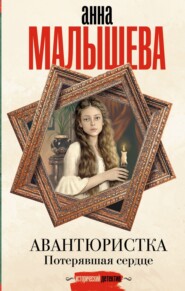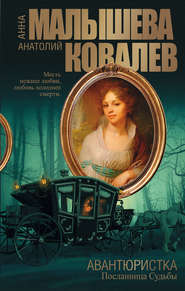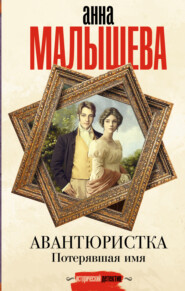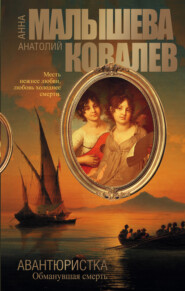По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Потерявшая сердце
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я думал, Евсевий образумился, – в крайнем смущении прошептал отец Иоил.
– Он и на том свете не образумится! – истерично крикнула Зинаида. – Гори он в аду синим пламенем, вот ему от меня поминанье!
Над ее головой пронесся зловещий ропот, похожий на шелест сухих листьев.
– Ты ему не судья, – прошептал отец Иоил, подавленный до того, что почти лишился голоса. – Никому из нас не дано право судить ближнего…
– Надоели вы со своими проповедями! – дерзко бросила она священнику и, обведя взглядом сдвинувшихся вокруг могилы братьев, бестрепетно добавила: – Всех вас ненавижу с вашими тайнами! С вашими глупыми законами, которые мешают жить, дышать!
Отец Иоил от изумления приоткрыл рот. Братья оцепенели. Хавронья часто моргала и морщилась, будто ей под нос сунули что-то едкое.
– Не желаю больше оставаться в общине, – твердо заявила вдова. – Завтра же приму лютеранство.
– Это Кребс ее в свою веру обратил! – крикнул один из братьев.
– Он и мужа отравить надоумил! – поддержал второй.
– Она нас всех подведет, – испугался третий, – донесет в полицию…
– Да что мы смотрим на нее? – возмутился четвертый. – Придушить змею – и дело с концом!
Братья тут же подхватили:
– Туда ей и дорога!
– И здесь же схороним, рядом с муженьком…
Они стали обступать Зинаиду. Хавронья вскрикнула и, по своему обычаю лишившись чувств, рухнула в сугроб, на соседнюю могилу. Отец Иоил преградил братьям путь, заслоняя собой вдову.
– Стойте! – закричал он не своим голосом. – Я не допущу смертоубийства! Оглянитесь, здесь лежат ваши предки! Хотите осквернить их могилы?!
Но его не слушали и молча теснили прочь. К горлу Зинаиды уже тянулись чьи-то руки, но вдруг все разом зашумели и отшатнулись. В руках у вдовы неведомо откуда появился длинный, хорошо заточенный нож.
– Кто полезет, распорю брюхо! – процедила она сквозь зубы с решимостью, не позволяющей усомниться в серьезности ее намерений. Глаза женщины сверкали страшнее ножа, она озиралась вокруг с дикой одержимостью кошки, которую окружили рычащие псы.
– Ну ее к лешему! – махнул рукой один из братьев, не переставая пятиться.
– Пусть живет, как знает, – осмотрительно рассудил второй, уже ступая на тропу, ведущую с кладбища.
– Такая стерва и вправду зарежет, – пробормотал третий и побежал за братьями трусцой.
Четвертый ничего не сказал, а только плюнул и перекрестился. Вскоре все покинули кладбище, только отец Иоил стоял как вкопанный. Зинаида же, не обращая на него внимания, аккуратно завернула нож в тряпицу и сунула его себе в валенок за голенище. Потом, нагнувшись над Хавроньей, принялась растирать снегом ее бледные щеки, приводя девку в чувство и приговаривая:
– Эй, дуреха, тебя-то никто не собирался душить! Кому ты нужна, раскрасавица эдакая!
Хавронья и в самом деле не блистала красотой, особенно ее уродовали огромные передние зубы, из-за которых рот всегда был немного приоткрыт. Очнувшись, она захлопала глазами, а увидев свою хозяйку живой и невредимой, на радостях расплакалась, тонко, по-мышиному попискивая. Над болотом пронесся смех молодой вдовы, да такой звонкий, что братья, заслышав его, дружно перекрестились.
Отец Иоил вздрогнул, будто проснувшись, и побрел вслед за своей струсившей паствой.
Зинаида действительно приняла лютеранство и даже перекрестила свою безвольную прислужницу Хавронью. Старый немец Пауль Кребс, к чьим советам женщина внимательно прислушивалась и чье мнение ценила, сказал ей как-то, поправляя на горбатом носу очки и щуря умные глаза:
– А почему бы вам, фрау Зинаида, не сделать еще одну перемену, и не избавиться от всех этих замков, молотков и прочей ерунды?
– Как же так? – насторожилась практичная Зинаида. – К чему? До сих пор лавка меня кормила, а вырученные за нее деньги могут и пропасть…
– Я и не предлагаю продать лавку, – тонко улыбнулся хитрый немец. – Я предлагаю только поменять товар. Скажем, вместо гвоздей и ваксы торговать курительными трубками и сигарами, табаком разных сортов?
Вдова брезгливо поморщилась. Кое-кто из посетителей ее лавки иногда понюхивал табак, и Зинаиду всегда мутило от этого запаха. А уж курильщиков она на дух не переносила. Впрочем, курить на улицах и в общественных местах строжайше запрещалось, да и курили-то в Петербурге в основном немцы.
– Вы мне предлагаете открыть немецкую лавку? – с сомнением произнесла молодая вдова.
– Ошибаетесь, фрау Зинаида. Сильно ошибаетесь. Нынче многие из ваших соплеменников, побывав за границей, пристрастились к курению, и год от года их число будет только множиться. Увидите, – подмигнул прозорливый Кребс, – лавка принесет немалую выгоду.
Зинаида серьезно задумалась над словами аптекаря. Кстати она вспомнила, что у ее бывших братьев-раскольников курение и нюханье табака считалось страшным грехом. «А почему бы мне на самом деле не открыть табачную лавку?» – спросила она свое отражение в зеркале и с наслаждением представила маленькие глазки отца Иоила, вылезающие от возмущения из орбит.
К Великому посту на бывшей скобяной лавке Евсевия Толмачева появилась новая вывеска, и, конечно же, первыми посетителями табачницы стали местные, василеостровские немцы. «Зер гут, фрау Зинаида!» – восторженно подняв большой палец вверх, оценивали они перемену обстановки и товара. Старообрядцы обходили лавку стороной, а завидев издали расфранченную по немецкой моде Зинаиду, плевались, крестились и шептали проклятия «змее».
В день открытия новой лавки не преминул явиться в дом вдовы и квартальный надзиратель Терентий Лукич. Он еще не был посвящен в последние подробности ее жизни и прямо с порога начал, вытирая платком мокрые от пота бакенбарды и обмахиваясь треуголкой, как веером:
– Нет, не тот нынче пошел раскольник. Мелкого пошибу человеки. То ли дело прежде: протопоп Аввакум Петрович, боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова – энто ж были мученики, богоборцы… Хотя и не сочувствую им вполне, а за силу духа уважаю…
– Что вам нужно? – перебила его Зинаида, не выказав при этом ни капли былого почтения.
– И сколько же вам желательно, Терентий Лукич? – с неприятной усмешкой спросила вдова.
– Ну, скажем, двадцати рублёв в месяц хватило бы…
– А если я даже копейки не заплачу? – прищурив глаз со слезой-родинкой, осведомилась Зинаида.
Квартальный кашлянул в подагрический кулак и спокойно сказал:
– Тогда я тебя, красавица, как незаконную раскольницу заарестую. Дальше сама знаешь что. Много вашего брата кандалы-то носит.
– А с немцев вы тоже дань собираете? – невинно поинтересовалась она.
– С немца что взять? – хмыкнул Терентий Лукич. – Немец, он по большей части лютеранин, изредка – католик. И тем и другим не запрещено отправлять культ. Наш царь добрый, не токмо что немцам, даже жидам от него никакого урону. Но вашего брата раскольника щадить не велено, а гнать из столицы поганой метлой в Сибирь, куда ворон костей не носил…
– Так вот знайте теперь, Терентий Лукич, что я приняла лютеранскую веру, – торжественно произнесла Зинаида, гордо задрав подбородок.
– Что такое? – От удивления квартальный подскочил, уронив треуголку. – То-то я гляжу, иконы попрятала! Ах ты, бестия! Изменщица проклятая! Тварь продажная! Муженька в могилу свела, да еще и веру свою туда же закопала! Отец с матерью на том свете тебя проклянут! Ох, проклянут!
Терентий Лукич потрясал кулаком и задыхался. Отступничество вдовы само по себе было ему безразлично, но очевидная потеря двенадцати ежемесячных рублей, не говоря о двадцати, на которые он сильно рассчитывал, доводила его до бешенства. Таких ударов судьба давно ему не наносила.
– Да будет вам кудахтать, надоело! – резко оборвала она его гневную речь. – А вот подумайте-ка, ведь я могу пойти к вашему начальству и доложить: так, мол, и так, квартальный надзиратель уже добрый десяток лет укрывает раскольников и берет с них взятки. Приложу списочек своих бывших братьев, ведь они мне уж не братья. И кто тогда пойдет этапом в Сибирь?!
– Ах ты, ведьма!.. Ах ты… – Терентий Лукич не находил слов. Он подобрал с пола треуголку и попятился задом к двери, не сводя выпученных рачьих глаз с вдовы.
– А не желаете этого, сделаем так, – наступала на него Зинаида. – Это вы мне будете платить двадцать рублёв в месяц за молчание!
– Он и на том свете не образумится! – истерично крикнула Зинаида. – Гори он в аду синим пламенем, вот ему от меня поминанье!
Над ее головой пронесся зловещий ропот, похожий на шелест сухих листьев.
– Ты ему не судья, – прошептал отец Иоил, подавленный до того, что почти лишился голоса. – Никому из нас не дано право судить ближнего…
– Надоели вы со своими проповедями! – дерзко бросила она священнику и, обведя взглядом сдвинувшихся вокруг могилы братьев, бестрепетно добавила: – Всех вас ненавижу с вашими тайнами! С вашими глупыми законами, которые мешают жить, дышать!
Отец Иоил от изумления приоткрыл рот. Братья оцепенели. Хавронья часто моргала и морщилась, будто ей под нос сунули что-то едкое.
– Не желаю больше оставаться в общине, – твердо заявила вдова. – Завтра же приму лютеранство.
– Это Кребс ее в свою веру обратил! – крикнул один из братьев.
– Он и мужа отравить надоумил! – поддержал второй.
– Она нас всех подведет, – испугался третий, – донесет в полицию…
– Да что мы смотрим на нее? – возмутился четвертый. – Придушить змею – и дело с концом!
Братья тут же подхватили:
– Туда ей и дорога!
– И здесь же схороним, рядом с муженьком…
Они стали обступать Зинаиду. Хавронья вскрикнула и, по своему обычаю лишившись чувств, рухнула в сугроб, на соседнюю могилу. Отец Иоил преградил братьям путь, заслоняя собой вдову.
– Стойте! – закричал он не своим голосом. – Я не допущу смертоубийства! Оглянитесь, здесь лежат ваши предки! Хотите осквернить их могилы?!
Но его не слушали и молча теснили прочь. К горлу Зинаиды уже тянулись чьи-то руки, но вдруг все разом зашумели и отшатнулись. В руках у вдовы неведомо откуда появился длинный, хорошо заточенный нож.
– Кто полезет, распорю брюхо! – процедила она сквозь зубы с решимостью, не позволяющей усомниться в серьезности ее намерений. Глаза женщины сверкали страшнее ножа, она озиралась вокруг с дикой одержимостью кошки, которую окружили рычащие псы.
– Ну ее к лешему! – махнул рукой один из братьев, не переставая пятиться.
– Пусть живет, как знает, – осмотрительно рассудил второй, уже ступая на тропу, ведущую с кладбища.
– Такая стерва и вправду зарежет, – пробормотал третий и побежал за братьями трусцой.
Четвертый ничего не сказал, а только плюнул и перекрестился. Вскоре все покинули кладбище, только отец Иоил стоял как вкопанный. Зинаида же, не обращая на него внимания, аккуратно завернула нож в тряпицу и сунула его себе в валенок за голенище. Потом, нагнувшись над Хавроньей, принялась растирать снегом ее бледные щеки, приводя девку в чувство и приговаривая:
– Эй, дуреха, тебя-то никто не собирался душить! Кому ты нужна, раскрасавица эдакая!
Хавронья и в самом деле не блистала красотой, особенно ее уродовали огромные передние зубы, из-за которых рот всегда был немного приоткрыт. Очнувшись, она захлопала глазами, а увидев свою хозяйку живой и невредимой, на радостях расплакалась, тонко, по-мышиному попискивая. Над болотом пронесся смех молодой вдовы, да такой звонкий, что братья, заслышав его, дружно перекрестились.
Отец Иоил вздрогнул, будто проснувшись, и побрел вслед за своей струсившей паствой.
Зинаида действительно приняла лютеранство и даже перекрестила свою безвольную прислужницу Хавронью. Старый немец Пауль Кребс, к чьим советам женщина внимательно прислушивалась и чье мнение ценила, сказал ей как-то, поправляя на горбатом носу очки и щуря умные глаза:
– А почему бы вам, фрау Зинаида, не сделать еще одну перемену, и не избавиться от всех этих замков, молотков и прочей ерунды?
– Как же так? – насторожилась практичная Зинаида. – К чему? До сих пор лавка меня кормила, а вырученные за нее деньги могут и пропасть…
– Я и не предлагаю продать лавку, – тонко улыбнулся хитрый немец. – Я предлагаю только поменять товар. Скажем, вместо гвоздей и ваксы торговать курительными трубками и сигарами, табаком разных сортов?
Вдова брезгливо поморщилась. Кое-кто из посетителей ее лавки иногда понюхивал табак, и Зинаиду всегда мутило от этого запаха. А уж курильщиков она на дух не переносила. Впрочем, курить на улицах и в общественных местах строжайше запрещалось, да и курили-то в Петербурге в основном немцы.
– Вы мне предлагаете открыть немецкую лавку? – с сомнением произнесла молодая вдова.
– Ошибаетесь, фрау Зинаида. Сильно ошибаетесь. Нынче многие из ваших соплеменников, побывав за границей, пристрастились к курению, и год от года их число будет только множиться. Увидите, – подмигнул прозорливый Кребс, – лавка принесет немалую выгоду.
Зинаида серьезно задумалась над словами аптекаря. Кстати она вспомнила, что у ее бывших братьев-раскольников курение и нюханье табака считалось страшным грехом. «А почему бы мне на самом деле не открыть табачную лавку?» – спросила она свое отражение в зеркале и с наслаждением представила маленькие глазки отца Иоила, вылезающие от возмущения из орбит.
К Великому посту на бывшей скобяной лавке Евсевия Толмачева появилась новая вывеска, и, конечно же, первыми посетителями табачницы стали местные, василеостровские немцы. «Зер гут, фрау Зинаида!» – восторженно подняв большой палец вверх, оценивали они перемену обстановки и товара. Старообрядцы обходили лавку стороной, а завидев издали расфранченную по немецкой моде Зинаиду, плевались, крестились и шептали проклятия «змее».
В день открытия новой лавки не преминул явиться в дом вдовы и квартальный надзиратель Терентий Лукич. Он еще не был посвящен в последние подробности ее жизни и прямо с порога начал, вытирая платком мокрые от пота бакенбарды и обмахиваясь треуголкой, как веером:
– Нет, не тот нынче пошел раскольник. Мелкого пошибу человеки. То ли дело прежде: протопоп Аввакум Петрович, боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова – энто ж были мученики, богоборцы… Хотя и не сочувствую им вполне, а за силу духа уважаю…
– Что вам нужно? – перебила его Зинаида, не выказав при этом ни капли былого почтения.
– И сколько же вам желательно, Терентий Лукич? – с неприятной усмешкой спросила вдова.
– Ну, скажем, двадцати рублёв в месяц хватило бы…
– А если я даже копейки не заплачу? – прищурив глаз со слезой-родинкой, осведомилась Зинаида.
Квартальный кашлянул в подагрический кулак и спокойно сказал:
– Тогда я тебя, красавица, как незаконную раскольницу заарестую. Дальше сама знаешь что. Много вашего брата кандалы-то носит.
– А с немцев вы тоже дань собираете? – невинно поинтересовалась она.
– С немца что взять? – хмыкнул Терентий Лукич. – Немец, он по большей части лютеранин, изредка – католик. И тем и другим не запрещено отправлять культ. Наш царь добрый, не токмо что немцам, даже жидам от него никакого урону. Но вашего брата раскольника щадить не велено, а гнать из столицы поганой метлой в Сибирь, куда ворон костей не носил…
– Так вот знайте теперь, Терентий Лукич, что я приняла лютеранскую веру, – торжественно произнесла Зинаида, гордо задрав подбородок.
– Что такое? – От удивления квартальный подскочил, уронив треуголку. – То-то я гляжу, иконы попрятала! Ах ты, бестия! Изменщица проклятая! Тварь продажная! Муженька в могилу свела, да еще и веру свою туда же закопала! Отец с матерью на том свете тебя проклянут! Ох, проклянут!
Терентий Лукич потрясал кулаком и задыхался. Отступничество вдовы само по себе было ему безразлично, но очевидная потеря двенадцати ежемесячных рублей, не говоря о двадцати, на которые он сильно рассчитывал, доводила его до бешенства. Таких ударов судьба давно ему не наносила.
– Да будет вам кудахтать, надоело! – резко оборвала она его гневную речь. – А вот подумайте-ка, ведь я могу пойти к вашему начальству и доложить: так, мол, и так, квартальный надзиратель уже добрый десяток лет укрывает раскольников и берет с них взятки. Приложу списочек своих бывших братьев, ведь они мне уж не братья. И кто тогда пойдет этапом в Сибирь?!
– Ах ты, ведьма!.. Ах ты… – Терентий Лукич не находил слов. Он подобрал с пола треуголку и попятился задом к двери, не сводя выпученных рачьих глаз с вдовы.
– А не желаете этого, сделаем так, – наступала на него Зинаида. – Это вы мне будете платить двадцать рублёв в месяц за молчание!
Другие электронные книги автора Анатолий Ковалев
Посланница судьбы




 4.67
4.67