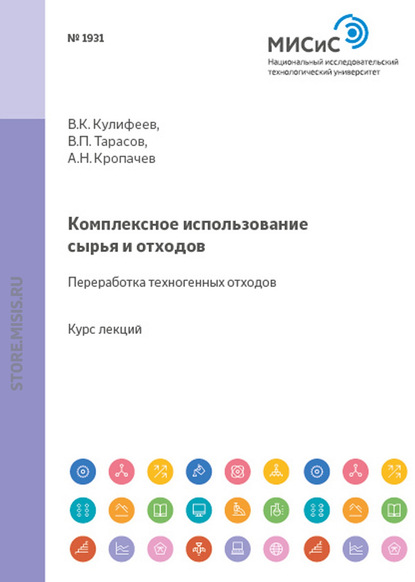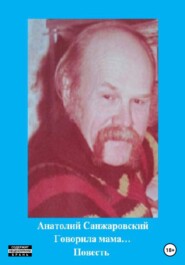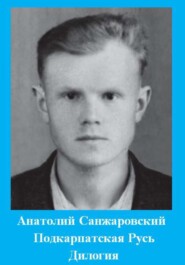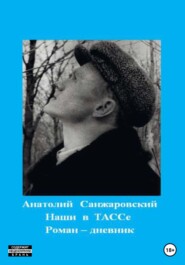По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что посмеешь, то и пожнёшь
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С каждой секундой тяжесть шагов нарастала.
Запоскрипывали уже коридорные доски.
– А! Председатель! Наше вашим! – Поднятую руку Здоровцев сжал в кулак, разжал. Так он здоровался. – Я ведь, есля честно, могу не класть пока свою долю. Не в смене я. Я мимоидущий. Я пофигист…[282 - Пофигист – человек, безразличный ко всему окружающему.] Отхрамываю на низ за молоком. Слышу, такая чудасия, я и вильни на заводишко. А ну дай разведаю, что оно такое да как стряслось. А мне говорят: сбегай кинь сколь можешь на похороны. А что я кину? Не из воды деньжанятки гребу… Мне бабец под строгай расчётко ссудила полтинник. Вернусь без молока своим киндеряткам. Зато полтинничек отдаю досрочно. Не попрекнут…
Здоровцев прошёл к столу, с шиком бросил монетки в тарелку у карточки.
С жалобкой звякнуло.
– Слышь, пред! Я не пошёл в химкину хату,[283 - Химкина хата – мертвецкая.] сразу сюда… Зафиксируй исторический моментик… И почему не фиксируют, кто дал, кто не дал… А то потом ещё ляпнут, что не дал. Неси по второму кругу.
Этот скулёж взбесил Глеба.
Вальнувшись через стол, он зачерпнул из тарелки горсть мелочи и швырнул Здоровцеву в глаза.
– Бери! Тебе нужней!
Сражённый нежданным поворотом, Здоровцев хлопнулся на колени подбирать мелочину.
– Ну и начальнички пошли, – рассеянно забубнил. – Хулиганят как хотят… Не отсаживаться ж от коллектива… Раз надо, так надо. Посидят денёк какой мои чингисханушки без молочкя. Я негордюха. Соберу и верну на стол. Бу-удет и моя там доляра…
«А не внёс ли ты свою долю ещё вчера? – скомканно думается Глебу. – Не с твоей ли доли эти похороны? Не твоя б, гад, червивка, я б на розвязях не уснул за котлом… Проводил бы её чин чинарём до дома и ничего б такого не сварилось… А набеги тот плюгашка машинистик Ванюра, я б ему живо голову открутил, как курчонку пакостливому…»
Собрав монетки столбиком, Здоровцев сунулся поставить его на тарелку.
Глеб защищающе заслонил тарелку руками:
– Оставляй себе. Я скажу, что ты вносил. Оставляй на похмелюгу… На банки-хвостики[284 - Банки-хвостики – спиртное с закуской.] там…
И покровительственно дважды тукнул Здоровцева пальцем по лбу:
– Спокойно отпускаю тебе две пиявки!
Здоровцев насторожился.
Как-то жалко взвесил на руке монетный столбик и не спешил класть его в карман, будто ожидая ещё чего.
– Что, мало?! – с подначином яростно гаркнул Глеб. – Добавлю! – Сорвал со Здоровцева промасленную блинчатую кепку-аэродром, смахнул в неё всё с тарелки и надёрнул кепку на Здоровцева, горячечно твердя: – Всех-то и сборов набежало… Разве что на каблук хватит. Нужны эти поборы нищие? Обойдёмся!
Уваловатый, неповоротливый Здоровцев вроде того и опешил.
Да как можно похоронные деньги брать? Как можно?
В следующий миг его мысли споткнулись.
Встретив утвердительный кивок Глеба, говоривший: «Бери! Можно!», – он легко успокоился и даже с каким-то скрытым торжеством несмело погладил деньги на голове. Эти мятые, всяко кручёные рублёвки и вытертая мелочь приятно холодили ему голову.
– Раза три хватит сходить на низ за червивкой иль за соляркой,[285 - Солярка – плохая водка.] – уже тише, свойски сказал Глеб. – А здоровяг своих потчуй не молоком – маслицем! Покуда начальство из маслоцеха унеслось смотреть, дуй в цех. Прямо из-под рожка набирай в бидончик и до хаты!
– А не в засыпку втравливаешь? Не попаду я в бидон?[286 - Попасть в бидон – попасть в беду.] Есля что, статьёй стеганут!
– Я когда-нибудь тебя подлавливал? Сказал – честно!
Здоровцева это ободрило.
Да, сколько он знает Глеба, своего сменщика, Глеб никогда не подводил его, не сажал в калошу.
Напротивушки.
Уже трижды Глеб, месткомовский вождь, спасал его, несунишку, от стыдного увольнения. Весь свой в доску был Глебка!
И как только обрадованный Здоровцев – Алёха не подвоха, сдуру прям! – загрохал по хлипким ступенькам в сторону маслоцеха (похоронные деньги он всё же вернул на стол), Глеб позвонил на проходную.
– Сейчас на выход прошпацирует панок Здоровцев. Не стесняйтесь, загляните к этому мазурику в бидончик. Шутя устройте сухую баньку.[287 - Сухая баня – обыск.] И вы увидите такое, что может вас слегка заинтриговать.
2
В странный час пришёл Глеб домой.
Был обед.
На обед он никогда не ходил. С газеты ел обычно в компрессорной. Утром брал хлеба, шмат сала или мяса и весь обед.
Другим проще.
К куску хлеба на заводе всегда набега?ла корчажка молока. Хочешь, черпай дуриком сколько надо. Глеб завидовал тем, кто мог пить молоко. Сам Глеб не мог. Редко когда-никогда выпьет полстакашиика. У него ж, говорила мама, панский желудок. Прими всего-то три глоточка, как желудок начинал давать гастроль, и Глеб не поминутно ли тяжёлой рысцой бухал в сторону нужника. Спешил срочно сменить воду в аквариуме.
Как мне и поручалось ночью, я наварил зверью, замесил ведро мешанки курам и кабану.
Вынес им.
И теперь, отдыхая от потной зарядки, разбито брёл от сарая к дому.
Я шёл, привычно уставившись себе под ноги, будто что богатое мог увидеть и боялся пропустить.
С этой привычки у меня наросла сутулость. Всякий раз, когда я горбатился при жене, мне отсыпалось на орехи.
Сейчас жены не было близко.
Я не следил за собой и шёл, как мне шлось.
Вдруг я заметил, что на пронзительно пустом дворе стало темней. Поднял голову – из-за угла по хлопающей грязи тяжело садил Глеб в чёрной стёганой фуфайке.
– Тебе привет! – вскинул я руку.
– Не до приветов! – поморщился он, но спросил: – От кого?
– Пробегала мышка, передавала большой привет тебе, кормильцу.