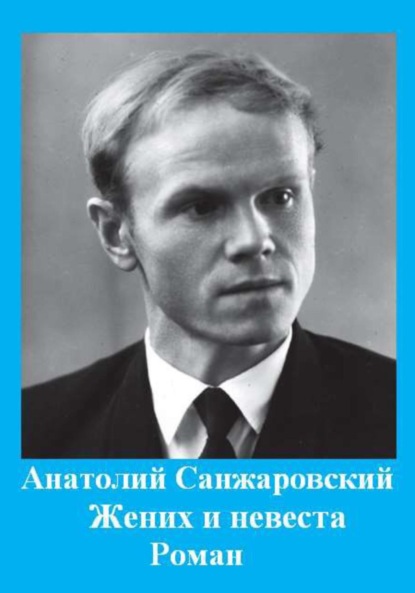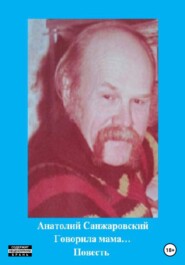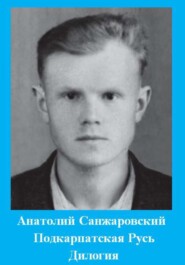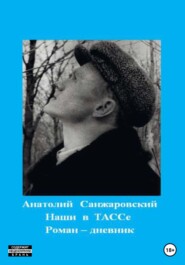По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жених и невеста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Старику и самому прискучила его молитва. Понял, что переборщил. Помолчал, мотнул головой. Прыснул:
– У тя, девонька, в зубах не застрянет. Не язычок… Бритва!
Совестно мне стало слушать мимо моей воли чужое.
Загорелась я было уже окликнуть мягко так Валеру, да Ленушка в торжестве большом подняла голову, глянула навкруг и выпередила меня.
– Дедушка! Дедушка! – в крик позвала. – Да ты только посмотри, кто к нам пришёл!
Поворотил Валера голову, пустил на меня поверх плеча весёлый свой в прищурке глаз. Лыбится.
– Марьянушка, ты чё вырядилась, как та семнадцатка?
– Твоя, Валер, правда. Была семнадцаткой в семнадцатом. Я, Валер, об чём пою…
– Ну?
– Я, Валер, об старом.
Он как-то весь насторожился. Буркнул:
– Знамо… Сами давненькие… С нами и песни наши состарились. Эхма-а…
– И чего колоколить без путя?! – пальнула я с перцем.
– Марьянушка! Да на те креста нету!
– Всё-то он видит! До коих веков, старый ты кулёк с дустом, думаешь корёжиться?
– Марьянушка! Теплиночка ты моя! Утрушко ты моё чистое! Да что ж я тебе искажу окромя того, что тыщу разов уже сказывал!? Не насмелюсь… Смущаюсь я, телок мокроглазый, проклятущего загса твоего…
– Вот так услышь кто сторонний – до смерти усмеют!
– А чего ж его, Марьянушка, не смеяться? Чужая беда за сахарь…
– Первенцу сыну полста! Самого за семь десяточков закинуло. А – смущаюсь идти в загс! Ну не смех? И какой только дьявол допустил тебя брать Берилин?! Иль ты и там был вояка – выгонял лягушек из-под пушек?
– И выгонял, посмеятельница… Всяко бывало. Только медалю «За взятие Берлина» мне не за лягушек пожаловали. И в родстве с наградным отделом армии не состоял. Ты-то уж это знаешь, как свою руку. Рядовой везде рядовой. Иль думаешь, мне по великому по знакомищу немчурёнок осколок всадил в мою решалку[1 - Решалка – голова.] да так, паршивец, ловко, что, суть твоя неправедная, докторский снайпер Никита сам Ваныч Фролов и посейчас не выловит? Эх ты, Марьянушка…
Жалко мне стало Валеру своего. Занюнила я.
Заплакать заплакала, а ниточку дела – вот уж где старая петля! – из рук не выпускаю.
– Знаешь же, – жалюсь, – океанический ты водяной, куда всё своротить… Я, Валер, не супостатиха какая там лихостная. Не тебе говорить… Такую долгую жизню в общности, вкупе да влюбе, изжили, худого слова друг дружке поперёк не положили… И про загс я не затевала бы… Да знаешь, Валер, я как на духу… Ну как ты не поймешь?.. У нас ворох ребятни. Все своими семьями живут-проживают, все через загс пробежали. А что ж мы с тобой? Иль нехристи какие? Какую ж мы им примерность даём? Оно-то, факт, вся сила не в регистрированной в бумажке. Бумажка поваляется-поваляется да и сопреет. Вся сила в другом… Все дети на твоей фамильности. А я одна одной на своей. Иль лютоедица я какая? Чужанка в доме в нашем?
– Какая ж ты чужичка?.. И сложит же такое в свой шалаш![2 - Шалаш – голова.]
– И сложишь… Скоко разов я звала-кликала на расписку? Не сочтёшь! А случись что… Неловко-то как! Вроде и немужняя я. Ничейная вроде как. Не хочу я такой сиротой идти под вороний грай на дубах…
– Ах ты Господи! Она, знаете-понимаете, помирать наладилась… Марьянушка, да… Не смеши ты, любушка, гусей! Золотосвадьбу отплясали. До бриллиантовой безо всяческих там загсов допрём!
– Враг с тобой, тиранозавр! Стал быть, ты и ноне не кладешь мне согласности произвесть в закон всю нашу жизню? Стал быть, ты и нонь бьешь клинья не пойтить?
– Марьянушка! Ну что я скажу?.. – Жёлтым от курева пальцем Валера трогает небритую щёку.
– Тогда я, молчун ты нескоблёный, искажу. Сто разов говорила я те про загс. А в сто первый – ни за какие блага! Скоко можно перевешивать старые портки на новые гвоздки?
– Марьянушка! Да ну тя к монаху! Ты чё это надумала?
В голосе у него всполох. Опаска.
– А припёк, истиранил душу – и надумала. Деньжата, хоть и малые, а тутоньки, – кладу руку к груди, где на кофтёнке у меня карманишка исподу прилажен, – до Воронежа хватя. Не пойди вот ноне – к Колюшк? уеду. Колюшо?к завсегда – в ночь, в полночь – тёплыми руками встрене, за стол присогласит и соснуть даст где. Матернее сердце в детках. А и детское не в камне… Мамушка я ему, не тётка какая проезжая… А ты бо?лей меня не увидишь, не заявись только нонеча в загс. Не знаешь сам дорогу – люди добрые скажут!
И с тем пошла.
Иду я, иду, а сама глаз от слёз не разожму.
На что отважилась бабака. Может статься, в последний раз у себя на подворье. Дурочка я страшная. Уж что надумаю – костьми паду, а то и сотворю.
Вышла я на свою на Рассветную аллею.
Навстречу мне люди. Говорят, смеются. Знакомый кто покажись на глаз – издаля бегу в сторонку куда. Не видали только чтобушко моих слёз…
Летала я по задам-огородам, летала-горячилась да и устала хорониться. Выправилась на тротуарчик, без вы?плачу пошла себе втиши со своей старенькой поводыркой, кривенькой клюкой, в загсову сторону; не плачу уже, а так, молчу, молчу и иду.
А благодати-то что вокруг!
В полной ясности осень добирала октябрёвы деньки.
В чистом небе жило солнышко. Воля тепла на диво крепенько так ещё держалась; вместе с тем знаешь, хоть оно и тепло, а холода подобрались уже к нашей сторонке близко, не сегодня-завтра наявятся…
Последние листья с дерев по?часту ложатся под ноги.
В боязни мне ступать по жёлтым от старости листочкам. Обхожу…
Иду я себе, иду и вижу уже себя со стороны.
Вижу молодой…
2
Удалой долго не думает.
В молодые лета я была видная из себя.
На личность белая, в ладной кости широконька да крепонька. Парубки вкруг меня хороводились, ровно тебе комары мак толкли.
А бедовая что! Неробкую душу вложил в меня Бог. По праздникам на игрищах я не особо-то конфузилась мужеской нации. Где борются, там и я. Совестно вспомянуть, и самой кортело поборюкаться. Помани только какой из хлопцев – изволь! И редкий кто из однолетков мог меня сбороть.