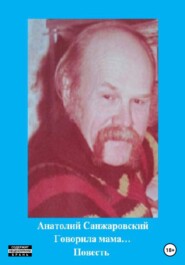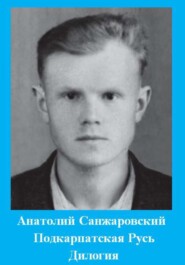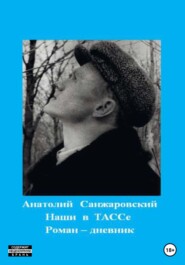По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что посмеешь, то и пожнёшь
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А то что ж… Не врагиня себе… Нешь положу с собой, – сердито буркнула Авдотья, поталкивая тёмный платок на самые глаза и забирая к выходу. – Разносила тут нелёгкая…
Во всю обратную дорогу Авдотья не сронила ни слова. Не заговаривала и в избе у себя, возясь у огня, домашничая.
Меня она не видела.
Я не существовал для неё.
2
Святцевское жильё занимало половину избы.
В другой половине, за сквозным проходом на улицу и в глухой двор, жила живность.
Оттуда доносилось неспокойное мычанье коровы.
На время она затихала, услышав ответ недельной телочки, что свернулась у моих ног на щелястом полу возле печки.
Жилая комната была просторная, хоть зайцев гоняй и небывало бедная. Почернелые, потрескавшиеся рёбра брёвен в стенах пусты, во множестве мест их побил жук, пересыпал своей мукой.
Самодельный стол обступили сиротами такие же самодельные табуреты и лавка. Единственную кровать с тусклыми шариками прикрывало старое одеяло из цветных лоскутов.
Сверху, с печи, из-за серой вовнутрь чуть заломленной с угла шторки за мной поражённо следила пара детских цепких глаз.
Я делал вид, что никакого наблюдения за собой и не подозреваю.
Авдотья вышла к корове с ведром намешанного тёплого пойла, и я громким шёпотом ухнул:
– Эй! На лежанке! Ты кто? Мальчик или девочка?
Угол шторки упал.
– Санёка я. Мальчик, должно…
– Откуда ты знаешь?
– Мамка говорела.
– А ты без мамки знаешь, в какую пору у вас ужинают?
– А как чужие уберутся, так и садовятся.
Без дальних подходов-переходов я сознался вернувшейся Авдотье, что со вчера не ел.
– А чего вы мне докладаете? Разь у меня сельповский трактир? Иль вы мне родствие какое?
– Да вы не думайте. Я не за спасибо…
Я дал ей две монетки по двадцать копеек.
– Ой, толенько? Всего-то две белые копеюшки? Дешёво ставите мой стол.
Я подал рубль.
Уголки полных губ тронула уступчивая усмешка.
– Эт-та бумажка нас смирит…
Вскоре Авдотья вынесла из-за печки стакан молока, прикрытый ломтем хлеба.
– Я лишнего не возьму. Это вотушки вам, – разжала другую руку, – в сдачу полжмени жёлтых копеюх.
Но сдачу она сразу не отдала.
Наладилась пересчитывать.
Пересчитывая, жалобно причитала, звякая однушками:
– У нас, в деревне, копейка рублём ходит. Не то что у вас… По городам бабашки[219 - Бабашки – деньги.] дурные бегают. Думаешь, и к нам оне дуриком добегают? На той вон неделе иездила у город. То-ольк от автобуса через улиньку переползла – сюрчит мильцанер. Не тамочки перейшла! Я труды клала, переходила, меня ещё и штрахонул! Я говорю: «Я могу перейтить, где ты возжалаешь. Тогда ты мне штраф отдашь?» Усмехается, изливает бодрость. Что-то чирк-чирк в книжечке, отодрал один листок, мне сует: «Давай, бабка, меняться. Ты мне рубль, я тебе квитанцию». Убоялась я с милицией тягаться. Выменял за квиточек, – там не на что глянуть! – рублевича! Содрал полную рублину. Как с городской! Это надо такое безобразие уквасить? Один разор…
Я уже отужинал.
А она всё пересчитывала не в третий ли раз.
Руки у неё вспотели.
Мокрые от пота однушки липли к пальцам, к ладони, и когда Авдотья, вздохнув глубоко, во все, наверное, большие, точно у коровы, лёгкие, – как ни жалко, а отдай объявленную сдачу! – разжала над моей рукой кулак, ни одна прилиплая к ладони копейка не упала.
Авдотья коротко, боязно тряхнула – копейки не падали, будто сидели на хорошем клею.
Она повернула кверху раскрытую ладонь.
Ладонь светилась золотыми блёстками монеток, словно кусочек неба в звёздах.
– Копейка служит рублю… Без копейки нету рубчика… Наша копейка знает хозяйку, – Авдотья, не убирала зачарованных, горьких глаз с налипших монеток. – Уходит тяжко, навовсе нейдёт…
– Не идёт, ну и не гоните силком, – взял я сторону её прозрачного намёка. – Оставьте при себе. В хозяйстве сгодится.
Добрая сила пустячной уступки сломала в Авдотье что-то такое, отчего в её злобе уже не было первоначальной полноты.
Помалу мягчел суровый, отчуждённый взгляд.
Наконец нечаянная глубинная улыбка не улыбка, а так, отсвет улыбки накатился на лицо и тут же, однако, пропал. Выстрожилась она лицом, но не на веки вечные, на минуту какую, и снова – я молча наблюдал за нею, – тайная, далёкая усмешка скользнула по устам при встрече глаз.
Я осмелел. Снял ботинки. Сел на табуретку и прижался пятками в мокрых носках к тёплому низу печки.
– Ну что? Сухо по самое ухо? – покладистым, покорным голосом спросила Авдотья, чёрной горушкой прилепливаясь на кровати, ближе к спинке, со спицами в руках. – И-и, велика ль нуждица гнала к нам?.. Неужле из-за одного Акимыча моего?
Я кивнул.
Во всю обратную дорогу Авдотья не сронила ни слова. Не заговаривала и в избе у себя, возясь у огня, домашничая.
Меня она не видела.
Я не существовал для неё.
2
Святцевское жильё занимало половину избы.
В другой половине, за сквозным проходом на улицу и в глухой двор, жила живность.
Оттуда доносилось неспокойное мычанье коровы.
На время она затихала, услышав ответ недельной телочки, что свернулась у моих ног на щелястом полу возле печки.
Жилая комната была просторная, хоть зайцев гоняй и небывало бедная. Почернелые, потрескавшиеся рёбра брёвен в стенах пусты, во множестве мест их побил жук, пересыпал своей мукой.
Самодельный стол обступили сиротами такие же самодельные табуреты и лавка. Единственную кровать с тусклыми шариками прикрывало старое одеяло из цветных лоскутов.
Сверху, с печи, из-за серой вовнутрь чуть заломленной с угла шторки за мной поражённо следила пара детских цепких глаз.
Я делал вид, что никакого наблюдения за собой и не подозреваю.
Авдотья вышла к корове с ведром намешанного тёплого пойла, и я громким шёпотом ухнул:
– Эй! На лежанке! Ты кто? Мальчик или девочка?
Угол шторки упал.
– Санёка я. Мальчик, должно…
– Откуда ты знаешь?
– Мамка говорела.
– А ты без мамки знаешь, в какую пору у вас ужинают?
– А как чужие уберутся, так и садовятся.
Без дальних подходов-переходов я сознался вернувшейся Авдотье, что со вчера не ел.
– А чего вы мне докладаете? Разь у меня сельповский трактир? Иль вы мне родствие какое?
– Да вы не думайте. Я не за спасибо…
Я дал ей две монетки по двадцать копеек.
– Ой, толенько? Всего-то две белые копеюшки? Дешёво ставите мой стол.
Я подал рубль.
Уголки полных губ тронула уступчивая усмешка.
– Эт-та бумажка нас смирит…
Вскоре Авдотья вынесла из-за печки стакан молока, прикрытый ломтем хлеба.
– Я лишнего не возьму. Это вотушки вам, – разжала другую руку, – в сдачу полжмени жёлтых копеюх.
Но сдачу она сразу не отдала.
Наладилась пересчитывать.
Пересчитывая, жалобно причитала, звякая однушками:
– У нас, в деревне, копейка рублём ходит. Не то что у вас… По городам бабашки[219 - Бабашки – деньги.] дурные бегают. Думаешь, и к нам оне дуриком добегают? На той вон неделе иездила у город. То-ольк от автобуса через улиньку переползла – сюрчит мильцанер. Не тамочки перейшла! Я труды клала, переходила, меня ещё и штрахонул! Я говорю: «Я могу перейтить, где ты возжалаешь. Тогда ты мне штраф отдашь?» Усмехается, изливает бодрость. Что-то чирк-чирк в книжечке, отодрал один листок, мне сует: «Давай, бабка, меняться. Ты мне рубль, я тебе квитанцию». Убоялась я с милицией тягаться. Выменял за квиточек, – там не на что глянуть! – рублевича! Содрал полную рублину. Как с городской! Это надо такое безобразие уквасить? Один разор…
Я уже отужинал.
А она всё пересчитывала не в третий ли раз.
Руки у неё вспотели.
Мокрые от пота однушки липли к пальцам, к ладони, и когда Авдотья, вздохнув глубоко, во все, наверное, большие, точно у коровы, лёгкие, – как ни жалко, а отдай объявленную сдачу! – разжала над моей рукой кулак, ни одна прилиплая к ладони копейка не упала.
Авдотья коротко, боязно тряхнула – копейки не падали, будто сидели на хорошем клею.
Она повернула кверху раскрытую ладонь.
Ладонь светилась золотыми блёстками монеток, словно кусочек неба в звёздах.
– Копейка служит рублю… Без копейки нету рубчика… Наша копейка знает хозяйку, – Авдотья, не убирала зачарованных, горьких глаз с налипших монеток. – Уходит тяжко, навовсе нейдёт…
– Не идёт, ну и не гоните силком, – взял я сторону её прозрачного намёка. – Оставьте при себе. В хозяйстве сгодится.
Добрая сила пустячной уступки сломала в Авдотье что-то такое, отчего в её злобе уже не было первоначальной полноты.
Помалу мягчел суровый, отчуждённый взгляд.
Наконец нечаянная глубинная улыбка не улыбка, а так, отсвет улыбки накатился на лицо и тут же, однако, пропал. Выстрожилась она лицом, но не на веки вечные, на минуту какую, и снова – я молча наблюдал за нею, – тайная, далёкая усмешка скользнула по устам при встрече глаз.
Я осмелел. Снял ботинки. Сел на табуретку и прижался пятками в мокрых носках к тёплому низу печки.
– Ну что? Сухо по самое ухо? – покладистым, покорным голосом спросила Авдотья, чёрной горушкой прилепливаясь на кровати, ближе к спинке, со спицами в руках. – И-и, велика ль нуждица гнала к нам?.. Неужле из-за одного Акимыча моего?
Я кивнул.